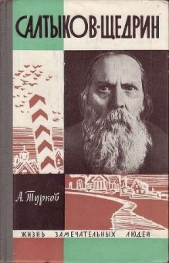Салтыков-Щедрин

Салтыков-Щедрин читать книгу онлайн
Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Выходец из небогатого провинциального «дворянского гнезда», герой Салтыкова Иван Самойлыч Мичулин, вовсе не мыслитель и не деятель, просто ищет своего места под солнцем и, оказавшись лишним «на пиру жизни», погибает, так и не поняв, зачем искал, страдал, чувствовал — зачем жил.
«Печальное и неприятное зрелище представляет Петербург в десять часов вечера и притом осенью, глубокою, темною осенью. Разумеется, если смотреть на мир с точки зрения кареты, запряженной рьяною четверкою лошадей, с быстротою молнии мчащих его по гладкой, как паркет, мостовой Невского проспекта, то и дождливый осенний вечер может иметь не только сносную, но даже и привлекательную физиономию... Но не в карете ехал, а шел себе скромно пешком Иван Самойлыч... Холодный и резкий ветер, дувший ему в самое лицо... жалобно и тоскливо стонал около него, нагло набрасывал ему на глаза капюшон его шинели и с видимым недоброжелательством насвистывал в уши один и тот же знакомый припев: «Озяб бедный человек! хорошо бы бедному человеку у огня да в теплой комнате! да нет у него ни огня, ни теплой комнаты, озяб, озя-яб бедный человек!»
Казалось бы, нет ничего нового ни в характере, ни в судьбе салтыковского бедного человека, «ветошки» — ведь все это было и у Гоголя, и у Достоевского, да художественно было и ярче и сильнее.
Нет, было и новое — сама авторская мысль, которая все время — рядом с героем, постоянно следует за ним, пристально наблюдает самомалейшие движения его души и его недалекой, скромной, но пробуждающейся мысли, его все более «бунтарских» и «вольнодумных» попыток найти причины «запутанного дела» своей молодой и уже увядшей жизни: ведь виноват же кто-нибудь в том, что нет ему места, что не назначено ему в обширном и обильном Российском государстве никакой роли, что попросту мрет в этом государстве с голоду бедный человек!
И начинают посещать голову Ивана Самойлыча мысли черные и неблагонамеренные, вдруг их оказывается даже «нестерпимо много», и вращаются они все вокруг одного мучительно терзающего «пункта»: «есть, дескать, в мире, и даже в самом Петербурге, люди сытые, которые едут теперь в каретах» и прочее, и прочее, а есть «странствующее во мраке грязи и невежества человечество» — и к этому-то бедному человечеству принадлежит и он, Иван Самойлыч.
И сны снятся Ивану Самойлычу уже до такой степени «неблагонамеренные», что вряд ли могли привидеться существу столь забитому, смирному и добронравному, с головою, «сплюснутою» и «стиснутою» жизненными обстоятельствами и всяческими правилами и наставлениями житейской мудрости, хотя голова эта полна уже болезненно-напряженных дум все о том же «пункте». Мимо глаз его, во сне, проносится «огромный, не охватимый взором город, с своими тысячами куполов, с своими дворцами и съезжими дворами, с своими шпицами, горделиво врезывающимися в самые облака, с своею вечно шумною, вечно хлопочущею и суетящеюся толпою. Но вдруг город сменился деревнею с длинным рядом покачнувшихся на сторону изб, с серым небом, серою грязью и бревенчатою мостовой... Потом все эти образы, сначала определенные и различные, смешались: деревня украсилась дворцами; город обезобразился почерневшими бревенчатыми избами; у храмов привольно разрослись репейник и крапива; на улицах и площадях толпились волки, голодные и кровожадные волки... и пожирали друг друга».
И снится Ивану Самойлычу другой сон: внезапно сделался он баловнем судьбы, человеком богатым и благополучным, а соседка по меблированным комнатам, Наденька, теперь уже жена Ивана Самойловича. Но и это видение сменяется другим. Как и прежде, «висит на нем, как на подлой вешалке, его старая и вытертая шинелька», как и прежде, унижен и скареден его вид». А бедная Наденька сидит в «холодной комнате, в изорванном платье, на изломанном стуле... около нее, бледный и истомленный, стоит его сын... И все это просит хлеба, но так тоскливо, так назойливо просит!..
— Папа, я есть хочу! — стонет ребенок, — дай хлеба...
— Потерпи, дружок, — говорит мать, — потерпи до завтра; завтра будет! нынче на рынке всё голодные волки поели! много волков, много волков, душенька!»
И возникают в измученном и больном сознании Ивана Самойлыча образы, подсказанные его создателю, Салтыкову, недавно прочитанным стихотворением Некрасова «Еду ли ночью по улице темной...».
«Но что же за мысль гнездится в головке твоей, Наденька? Зачем же ты улыбаешься, зачем в этой улыбке вдруг сверкнуло отчаяние и злобная покорность судьбе? Зачем ты бережно сажаешь ребенка на стул и, не говоря ни слова, отворяешь дверь бедной комнаты?..
— Ешьте, — говоришь ты мужу и сыну, бросая на стол купленный ужин, а сама садишься в угол».
Страшный сон, но неужели в нем скрыт ответ на неотвязный вопрос: «Да отчего же нет мне места? да где же наконец мое место?» Неужели ничто не ожидает бедного человека, кроме гибели?
В отчаянии и сердечной тоске обращается с этим вопросом Иван Самойлыч к своим соседям по меблированным комнатам — двум резонерствующим «друзьям человечества» «философии кандидату» Вольфгангу Антонычу Беобахтеру и «недорослю из дворян» Алексису Звонскому.
Слушают Ивана Самойлыча Беобахтер и Звонский, даже спорят о том, как же извлечь из беды страждующее человечество, но ни невинное пристрастие кандидата философии к «карательной машине» (то есть гильотине), ни платоническая жажда недоросля из дворян всем равно раскрыть свои объятья не распутывают, ни на шаг не двигают вперед «запутанного дела» Ивана Самойлыча.
Чувствуется, как накипает у Салтыкова раздражение против абстрактных рецептов спасения человечества, о которых наслышался он в дружеских собеседованиях русских утопистов, и разрешается это раздражение если еще не сатирой, то весьма суровой иронией, язвительной насмешкой, окрашивающей фигуры Вольфганга Беобахтера и Алексиса Звонского.
Но повествование продолжается.
Какой-то тревожащий, раздражающий червь точит и гложет сердце и мозг Ивана Самойлыча, выгоняет его из дому. На последний целковый покупает он билет в театр.
И вот он в пятом ярусе: «Как нарочно, в этот день давали какую-то героическую оперу».
Полились звуки, и многое, очень многое говорили они душе Ивана Самойлыча. «Герой наш ожил», ожил — и забыл свою бедную, нелепую, ненужную жизнь, ожил — и почувствовал себя человеком, ощутил возможность какого-то общего и не бесполезного дела... Хоть и не знал Иван Самойлыч итальянского языка, но сами звуки будили воспоминания, рождали чувство единства с той возбужденной толпой, которая двигалась, волновалась, чего-то требовала, протестовала на сцене.
«Ощущение, произведенное этой громкой, но вместе с тем глубоко-стройной музыкой, было как-то странно и ново для Ивана Самойлыча. Он никак не ожидал, чтоб за звуками могла ему слышаться толпа, — да и какая еще толпа! — вовсе не та, которую он ежедневно привык видеть на Сенной или на Конной, а такая, какой еще он не видывал, и, что всего страннее, возможность которой он вдруг начал весьма ясно и отчетливо сознавать... он хочет сам бежать за толпою понюхать заодно с нею обаятельного дыма...» Обаятельный дым — что же это такое? Конечно же, и здесь вступает в свои права тот иносказательный язык, который назовет потом Салтыков «эзоповым» (по имени древнегреческого баснописца Эзопа), — конечно, это пороховой дым. И Ивану Самойлычу даже думается — может быть, и я...
Конечно, все эти яркие впечатления, это радостное возбуждение, которое вызывала музыка Россини (а именно опера Россини «Вильгельм Телль» подразумевается в описании ощущений Ивана Самойлыча), — все это впечатление самого Салтыкова — страстного любителя романтической итальянской оперы. Его захватывала необыкновенная, волнующая красота музыки и искусства пения, героический драматизм сюжетов, идеальная возвышенность характеров и чувств, наконец, образ народной массы, «толпы», которая появляется не только «у воды» (технический театральный термин, означающий — на заднем плане), но которая выходит на авансцену, становится непосредственным и активным участником действия и борьбы.