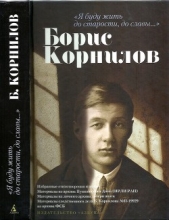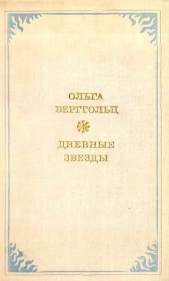Ольга. Запретный дневник.

Ольга. Запретный дневник. читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Очень угнетенное состояние, прорезаемое бешеным, холодным ожесточением.
Почему, черт возьми, он все еще сильнее нас?!
Значит, из таких городов остались одни мы, один Ленинград. Оборона Киева, Одессы, Севастополя кончилась трагически. А м. б., немцы все-таки врут насчет него? М. б., совершится чудо — и город отстоят? Неужели — так-таки нечем и не с чем?! Ясно, что теперь немцы кинутся на Ленинград. О, какой ад они тут устроят! Навряд ли мы выживем. Только я не хочу теперь переживать еще и Юрку — нет, нет, — если суждено, то пусть сперва меня, не надо мне еще и такой смерти, что это за судьба: все время быть свидетелем гибели самых дорогих людей — и все же жить.
Гнет на душе, томительное ожидание гибельной беды.
Хорошо, если б это настроение сменилось вызывающей дерзостью, как было днями в прошлом году. Но навряд ли… И вот забавно — уже три дня задержки, — неужели беременна? Но пока не убежусь окончательно — ничего не скажу Юре, не хочу его зря волновать надеждой. Это хорошо было бы, пусть хоть и под гибель, — все-таки все бы в жизни было исполнено.
Надо написать письма родным — м. б., скоро будет уже не до писем, м. б., это будут мои последние письма. Надо бы хоть короткую записочку все же послать Сереже.
6/VII-42
Три дня назад, позавчера, — мы сообщили об оставлении Севастополя…
Мне хочется сказать им, севастопольцам, простейшие и торжественнейшие слова, но таких нет.
Вечная память павшим,
Вечная слава — живым.
В городе по этому поводу некое смятение умов, количество желающих уехать резко подскочило: «очередь за нами»…
Да! Что-то будет? Ну, что бы ни было — все равно уж.
9/VII-42
Третьего дня мы с Юркой переехали с нашего 7 этажа, из «блиндажа» с небом — в пятый этаж, в отдельную квартиренку из 2-х комнат. Это, как и сотни квартир в Л-де, — вымершая квартира. Ее хозяин, какой-то киноактер, убит на фронте, брат его умер зимой. В моей комнате, — она же наша спальня, — рояль, книжный шкаф с книгами, которые человек подбирал, видимо, специально, в этом же шкафу ящики с фото — в изобилии снимки какой-то славной, мирно улыбающейся, спокойно глядящей женщины, и шкаф, который был набит разным домашним барахлом: старые шляпы, наполненные медицинскими банками, лоскуточки, посуда (масса блюдечек и две подходящие к ним чашки, ситечко неизвестного назначения, ржавая мясорубка и т. д.).
Я разбирала и осваивала все это, расставляла мебелишку, раскладывала наше белье со смутным, многослойным чувством недоумения, иронии и печали. Мой быт накладывался на чей-то чужой, потухший, умерший быт. Меня не покидало ощущение, что это — чужая квартира, что хозяева еще могут вернуться, хотя я знаю, что этого не будет. Вот и я не живу на Троицкой, и я лишена своей квартиры, своей прежней жизни, и, приходя туда, замираю в удивлении и внутренне мечусь: неужели я, теперешняя я, жила там, и у меня был Коля, и была жизнь, абсолютно не похожая на эту? Все сдвинуто, перемещено, плоскости отдельных чуждых жизней пересекают друг друга, и вернуть прошлое — нельзя. Мне все еще часто кажется, что сегодняшний мой быт — это «невзаправду», «понарошку», нечто вроде игры, или какая-то вторичная жизнь — как на том свете, как после смерти. Это не сплошь, не все время. Юра — это жизнь, это взаправду. Но иногда — такая томящая неуверенность в реальности существования!
Неужели же я настоящий,
И действительно смерть придет?[149]
Ощущение печальной нереальности, недоуменности своего бытия обострилось в связи с переездом в эту вымершую квартирку. И вчера весь день и особенно вечер, когда мы с Юрой разбирали чужие пожитки, часть выбрасывали, а часть оставляли себе, — неотступно было передо мной лицо Коли, и вспоминала, вернее, видела его только в минуты, когда я наносила ему обиды: как в одну из бомбежек, когда мы вышли на улицу, вечером, это был уже ноябрь, конец ноября, я нервничала, т. к. стреляли зенитки и падали бомбы, и я просила его — довольно зло — прибавить шагу, а он шел не быстро, и рассердился на меня, и на углу Невского и Фонтанки сказал, что зайдет в аптеку — переждать тут, а я помчалась в р[адио] к[омитет]. Мне хотелось добежать до подвала быстрее, т. к. было страшно, я прибежала туда, и сразу стало стыдно, что бросила Кольку на улице. Но через минут 10–15 Юрка сказал мне: «Пришел Коля», — я так обрадовалась, вышла к нему в вестибюль и, кажется, усадила его потом — но не в «нашей» с Юркой комнате, а в общей. Коля сказал: «Я знал, что ты нервничать будешь, что я остался на улице». Боже! Он все время в те дни думал не о своей опасности, а о том, чтоб я не нервничала и не боялась за него. Ох, ну не надо…
И только совесть с каждым днем сильней
Беснуется: великой хочет дани…[150]
В «Комсомольской правде» от 5/VII напечатан «Февральский дневник» — полностью, без единой поправки и купюры. Ну что ж, хоть и задним числом обнародовано, — но все-таки это здорово… А стихи, надо прямо сказать, отличные. Читала их в газете сама с волнением и со слезами. Такие можно было, наверное, написать один раз, и уж, наверное, лучше ничего не напишу. Я сама поражена сейчас — как я написала их — тогда? Откуда все это пришло — эта суровая, прямая мысль, точная формулировка, внутренняя, рыдающая, жгучая страсть при внешней — почти холодности. Ведь я была просто психом тогда на почве голода, а Колина смерть, вырвавшая из меня душу с корнем? Непонятно. Перечла сейчас свой январский дневник — господи, это сплошной голодный бред, и только. Я сейчас в ужасе — как я не ходила к Коле ежедневно, как я могла одна сожрать печенье, присланное Мусей, как я могла ЧАСАМИ писать о еде? И из этих страниц видно, что я была ненормальным человеком. И ведь я тогда еще рассказы о партизанах писала! Но — вспоминая, что же я могла делать? Я ведь что-то запасала — на предмет, когда Коля выйдет, что-то делала, а сидеть рядом с ним, безумным, ничего не понимающим, — и ему даже белья нельзя было сменить — не было! И что мы знали о дистрофии тогда!
Ах, эти все записи бесплодны, и я — бесплодное и жалкое существо: не сберегла Колю, не умела его любить, а сейчас мучу тоской своей Юру — он все видит и понимает, и я не могу и не хочу скрывать ничего…
«Эстафета» идет очень плохо и явно перенашивается. Надо писать по ночам. Трясучка днем одолевает — и то одно, то другое. То Юрка зайдет, то звонки — я в моде, мне предлагают всякие заказы и т. п., в общем, висят над душою. И Юра торопит с поэмой, спрашивает о ней — трясучка еще злее.
Главное — такой период, что хотя на время работы надо быть одной, совсем одной — и внутренне тоже. Это всего достижимее ночью, когда ничего не висит.
12/VII-42
Понурое, расслабленное состояние. Видимо, сказывается почти бессонная ночь — до утра работала над поэмой, потом долго не могла уснуть, а ночью снились мучительные, томящие сны: война, бомбежки, я убила какую-то страшную старуху (я иногда убиваю во сне ужасных старух), и Ирочку видела — будто она ослепла, но так хорошо видела ее личико, живое, а не оборотня.
Колю во сне никак не вижу.
Это тяжелое, унылое какое-то, бескрылое состояние тянется довольно давно, и я не могу найти конкретной ему причины. Тут и ровноноющая тоска о Николае, и тоскливое ожидание штурма города — бессмыслицы всей этой кровавой, и тупое терзание из-за общих наших дел — т. е. от сознания, что гибнут и гибнут люди, такие же, как Николай, и все растет и растет ком страданий.
О, что мне до них, что мне до всей этой большой жизни, большой земли, — с досадой думаю я иногда, — довольно, довольно! У меня есть Юра с милыми его пушистыми глазами, человек, любящий меня, красивый и желанный мне. У меня есть какой-то отрезочек времени — «до штурма», до всей этой идиотской катавасии, когда уж нельзя будет вздохнуть, — ну, и живи, радуйся весь этот отрезочек.
И все же томит, темнит жизнь, отымает легкость в душе — пусть и горькую…
Наверное, на днях немцы возьмут Воронеж. Они — в области Дона, форсировали его. От Купянска до Россоши они махнули в неск. дней, — видимо, наши бежали, произошла какая-то катастрофа, говорят о гибели наших двух армий. И это после того, как был приказ № 130![151] Нет, наверное, хватил тут Иосиф[152] зря. Но люди правы, нужно выстоять до открытия второго фронта. Просто выстоять, чтоб не погибло государство. Немцы должны же изнемочь, захлебнуться в крови. И тогда, когда ударят по ним с запада, — мы начнем фронтальное наступление здесь. Логически — все верно. Но что будет к тому времени с нами — с Л-дом, со мной, с Юркой, с будущей нашей жизнью? Это никому не интересно.