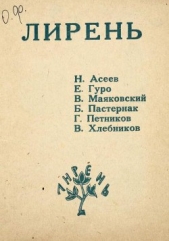Маяковский. Самоубийство

Маяковский. Самоубийство читать книгу онлайн
Смерть и бессмертие… В приложении к Маяковскому оба эти слова таят в себе множество вопросов. О причинах трагической гибели поэта спорят поныне, и споры эти сегодня так же горячи, как в тот роковой день 14 апреля 1930 года. И с бессмертием Маяковского дело обстоит тоже непросто. На какое бессмертие может рассчитывать поэт, сказавший: «Умри, мой стих…», «Мне наплевать на бронзы многопудье, мне наплевать на мраморную слизь…»?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тов. Александров. Выясните, что Пастернак хочет конкретно.
Между тем понять, «что хочет Пастернак конкретно», было не так уж трудно. Он хотел, чтобы его труд был оценен так, как он того заслуживал. Иными словами, он хотел принадлежать к сонму обласканных.
Обращаться «с этими пустяками» к Иосифу Виссарионовичу он действительно не хотел — с ним, как он полагал, ему приличествовало вести разговоры лишь на высокие темы: о жизни, о смерти. Но на возможность личного обращения к самому все-таки намекнул.
► На фунт помолу нужен пуд навозу, — сказал однажды Есенин. — Без славы ничего не будет, хоть ты пополам разорвись, тебя не услышат. Так вот Пастернаком и проживешь!
Не знаю, докатилось ли до Бориса Леонидовича это замечательное высказывание, но нет сомнений: его мучило сознание, что он, глядишь, так вот и проживет всю свою жизнь «Пастернаком» — всеми забытым безвестным отшельником. И чтобы избежать этой печальной участи — не отказался бы и от той «дополнительной позолоты» своей жизни, знаком которой в то время была Сталинская премия.
Но что правда — то правда. За то, что лучшим поэтом эпохи Сталин назвал не его, а Маяковского, он действительно «личным письмом благодарил автора этих слов».
Непосредственным поводом для этого письма явилось, правда, совсем другое событие. Арестовали сына Ахматовой и тогдашнего ее мужа Н. Н. Пунина. В отчаянии она не только обратился с мольбой об их освобождении к САМОМУ, но и кинулась за помощью к Пастернаку. А у Пастернака незадолго до того состоялся знаменитый его телефонный разговор со Сталиным, в котором вождь упрекнул «небожителя», что тот не смог (или не захотел) «защитить друга». (Речь шла об арестованном О. Мандельштаме.)
Ахматова обратилась со своей мольбой к Сталину 1 ноября 1935 года.
Пастернак послал ему свое письмо в тот же день:
► Дорогой Иосиф Виссарионович!
23 октября в Ленинграде задержали мужа Анны Ахматовой, Николая Николаевича Пунина, и ее сына, Льва Николаевича Гумилева.
Однажды Вы упрекнули меня в безразличии к судьбе товарища.
Помимо той ценности, какую имеет жизнь Ахматовой для всех нас и нашей культуры, она мне еще дорога и как моя собственная, по всему тому, что я о ней знаю. С начала моей литературной судьбы я свидетель ее честного, трудного и безропотного существования.
Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, помочь Ахматовой и освободить ее мужа и сына, отношение к которым Ахматовой является для меня категорическим залогом их честности.
Преданный Вам
На следующий же день Ахматовой (она еще оставалась в Москве) сообщили, что ее сын и муж уже дома, в их ленинградской квартире.
Причиной чуда была резолюция Сталина на ее письме:
► т. Ягода. Освободить из-под ареста и Пунина и Гумилева и сообщить об исполнении. И. Сталин.
Неизвестно, оказало ли какое-то воздействие на быстрое решение Сталина заступничество Пастернака, или для «чуда» достаточно было бы одного письма Ахматовой. Но Пастернак в этих обстоятельствах не мог не выразить вождю свою благодарность.
Так родилось (не сразу, не сразу, а какое-то время спустя) второе его письмо Сталину — то самое, о котором он упоминает в своем «Автобиографическом очерке»:
► Дорогой Иосиф Виссарионович!
Меня мучит, что я не последовал тогда своему первому желанию и не поблагодарил Вас за чудесное молниеносное освобождение родных Ахматовой; но я постеснялся побеспокоить Вас вторично и решил затаить про себя это чувство горячей признательности Вам, уверенный в том, что все равно, неведомым образом, оно как-нибудь до Вас дойдет.
И еще тяжелое чувство. Я сперва написал Вам по-своему с отступлениями и многословно, повинуясь чему-то тайному, что, помимо всем понятного и всеми разделяемого, привязывает меня к Вам. Но мне посоветовали сократить и упростить письмо, и я остался с ужасным чувством, будто послал Вам что-то не свое, чужое.
Я давно мечтал поднести Вам какой-нибудь скромный плод моих трудов, но все это так бездарно, что мечте, видимо, никогда не осуществиться. Или тут надо быть смелее и, недолго раздумывая, последовать первому побуждению?
«Грузинские лирики» — работа слабая и несамостоятельная, честь и заслуга которой всецело принадлежит самим авторам, в значительной степени замечательным поэтам.
В передаче Важи Пшавелы я сознательно уклонился от верности форме подлинника по соображениям, которыми не смею Вас утомлять, для того, чтобы тем свободнее передать бездонный и громоподобный по красоте и мысли дух оригинала.
В заключение горячо благодарю Вас за Ваши недавние слова о Маяковском. Они отвечают моим собственным чувствам, я люблю его и написал об этом целую книгу. Но и косвенно Ваши строки о нем отозвались на мне спасительно. Последнее время меня, под влиянием Запада, страшно раздували, придавали преувеличенное значение (я даже от этого заболел): во мне стали подозревать серьезную художественную силу. Теперь, после того, как Вы поставили Маяковского на первое место, с меня это подозрение снято, и я с легким сердцем могу жить и работать по-прежнему, в скромной тишине, с неожиданностями и таинственностями, без которых я не любил бы жизни.
Именем этой таинственности
Горячо Вас любящий и преданный Вам
Нетрудно заметить, что письмо это — не без лукавства.
Я имею в виду не начальный и финальный его аккорды с намеками на какую-то таинственную, чуть ли не мистическую связь поэта и вождя. Это как раз в духе тогдашнего его «романа со Сталиным», да и в духе всей тогдашней его стилистики (не только словесной, но и поведенческой), что, собственно, и дало Сталину повод назвать Бориса Леонидовича небожителем.
Говоря о лукавстве этого письма, я имею в виду, например, его вопрос: не следует ли ему быть смелее и не послать ли в дар вождю, повинуясь первому побуждению, что-нибудь свое, а не только переводы грузинских поэтов?
Но главный интерес для нас тут представляет некоторое лукавство, проглядывающее в его благодарности Сталину за слова, сказанные тем о Маяковском:
► Они отвечают моим собственным чувствам, я люблю его и написал об этом целую книгу.
Начать с того, что книга, о которой идет речь («Охранная грамота»), была тогда под цензурным запретом. Но главное тут даже не это. Говоря, что слова Сталина о Маяковском отвечают его собственным чувствам, потому что он тоже любит Маяковского и даже написал об этой своей любви целую книгу, не мог же он не отдавать себе отчет в том, что ценят они со Сталиным не одного и того же, а — РАЗНЫХ МАЯКОВСКИХ.
Он, Пастернак, любит и ценит Маяковского ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО (именно об этой любви и написана его «Охранная грамота»), а Сталин — Маяковского, который «был и остается лучшим, талантливейшим поэтом НАШЕЙ, СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ». То есть — того самого, которого Пастернак считал «никаким, несуществующим».
Какого Маяковского поднял на щит и приказал прославлять Сталин, было очевидно. А тем, кто этого не понял (или прекрасно понял, но под шумок хотел бы воспользоваться сталинской оценкой, чтобы канонизировать ВСЕГО МАЯКОВСКОГО), сразу — ясно и недвусмысленно — дали понять, что это у них не получится.
► Слова Сталина о том, что Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи, явились для каждого поэта Советской страны величайшим праздником.
Эти слова приковали внимание миллионов масс не только к великому творчеству Маяковского, но и ко всей поэзии, они повысили ее значение на общекультурном фронте, они утроили ответственность поэтов за свою работу. И в то же время эти слова обязывают на глазах у всей страны, на этом пленуме, разъяснить, почему же Маяковский стал лучшим поэтом, чем он заслужил такую высокую оценку вождя и почему его имя, его творчество стало близким и дорогим каждому из нас. В этом есть настоятельная необходимость, так как появились уже люди, которые пытаются по-своему, исходя из своих интересов, истолковать замечательные слова тов. Сталина. Есть люди, которым эти слова явно пришлись не по душе. Это, главным образом, те, кто признавал Маяковского и любил его только тогда, когда он выражал мрачное, смятенное сознание одинокого, деклассированного человека предоктябрьской эпохи, когда он говорил:
Это, главным образом, те литературные гурманы, которые до сих пор продолжают умиляться органической последовательности и идейной стойкости большого поэта Бориса Пастернака, который с мужеством, достойным лучшего применения, продолжает пропускать советский воздух в свой замкнутый идеалистический мирок только через трещины в форточке. Это те люди, для которых Маяковский времен «Облака в штанах» дороже Маяковского времен «Хорошо», для которых Маяковский периода «желтой кофты», Маяковский, стучащий кулаками по пюпитру, дороже Маяковского созидающего, дороже Маяковского, ставшего лучшим поэтом советской эпохи, «агитатора, горлана, главаря», который «всю свою звонкую силу поэта тебе отдает, атакующий класс». Такие люди есть, они прячутся за славословие Маяковскому, они маскируются, но их надо разоблачать.