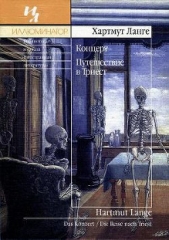Некрополь

Некрополь читать книгу онлайн
Борис Пахор (р. 1913) — один из крупнейших современных словенских писателей, произведения которого удостоены многих престижных европейских литературных премий. «Некрополь» — известнейший роман Б. Пахора, в котором воспоминания писателя о жизни узников фашистских концлагерей переплетаются с философскими размышлениями о мире и о непреходящих человеческих ценностях. Книга написана очень живым и образным языком, она захватывает читателя от первой до последней строки. «Некрополь» переведен на многие европейские языки. На русском языке публикуется впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Старший врач в то утро был довольно словоохотлив, и все указывало на то, что он, как обычно, быстро пройдет мимо нар. Он был высокий, и крепкий, и светловолосый, как один из тех увенчанных лаврами регбистов, которые иногда появляются на цветной обложке спортивного журнала. Он шел в сопровождении доктора Роберта и был оживлен и шумен, как камень, скатывающийся в долину. Одеяла на нарах были выровнены как следует, так что под гладкой, в бело-синюю клеточку материей смерть казалась еще более коварной и в то же время по-сообщнически настроенной на длину волны хорошего настроения старшего врача. Так было, например, когда речь зашла о старом бельгийце. «Gestorben» [31], — сказал Роберт, а старший врач доверительно склонил голову и, как при разговоре с коллегами, стал рассуждать о том, что он был неизлечим, что, кроме рожи, у него имелась еще куча других болезней. «Selbstverstandlich» [32], — подтвердил тогда Роберт. И было омерзительно, что он так себя вел. Конечно, ему следовало быть достаточно вежливым, если он хотел получить немного таблеток сульфамидов из эсэсовской амбулатории, но то, что очень выходило за эти рамки, было слишком. Когда они остановились возле Дарко, могучее тело старшего врача оживилось еще больше. Приподнятым, высокопарным голосом он снова поведал о высокой температуре утром и о ее падении вечером, «Ja, klar» [33], — воскликнул он. «Ja, klar», — повторил за ним Роберт. «Klar, klar», — констатировали они. Как регбист, прохаживался старший врач перед деревянными нарами и, полный жизненной силы и ощущения своей значимости, решил осмотреть Дарко. Какая исключительная благосклонность! Ведь более удивительной была признательность, которую он выказал сам себе, чем интерес к осужденному бедняжке. И Дарко неуверенно озирался, не знал, во благо или во вред ему то, что они говорят. На его детском лице были взрослые глаза. Через минуту он стоял перед ними в короткой рубашке, а его узкий, хорошо вылепленный зад выглядел необычно свежим на фоне распадающихся тел. Старший врач широко расставил ноги и наклонил голову над плечами Дарко. Лишь бегло потыкал стетоскопом тут и там, и уже снова загремел его голос: «Klar! Es ist vollständig klar!» [34] Шестнадцатилетний Дарко перед такой шумной комиссией был в смущении и невнятно улыбался. Он в какой-то степени догадывался, что речь идет о странной шутке посреди кладбища. Ведь потом к Дарко подошел Роберт, который, конечно, тоже воскликнул: «Klar!» В то время как старший врач крутился на месте и повторял подряд: «Klar, nein? Ja, selbstverständlich klar!» [35]. Дарко тогда снова забрался на свои нары, а старший врач сказал, что пошлет его в Дору. «Если вы так считаете», — быстро согласился Роберт, и лишь самую малость, лишь чуть-чуть было заметно, что он в замешательстве, поскольку знает, что Дарко — мой земляк. «Четыре постели пустуют, — сказал я тогда. — Места хватает, он может еще остаться тут». Но старший врач взмахнул своей ручищей: «Nein, nein! [36] В Доре ему будет лучше, там есть барак как раз для таких больных». Роберт промолчал и затем сменил тему разговора. В тот момент я проклинал его шутовское шарлатанство, а поскольку они не хотели убираться из комнаты и перенести в другое место свои игры в поддавки, я поднялся к нарам Дарко, чтобы поправить его одеяло. Клоуны все еще шумели, как будто состязались, кто кого превзойдет в остроумии. Но неожиданно старший врач спросил: «Его жена?» И одновременно наклонился к Роберту и что-то шепнул ему на ухо, а Роберт захихикал. Да, несмотря на то, что в углу было темновато, старший врач заметил портрет на картоне и осквернил его своими замечаниями. Так что все было безнадежно жалким. А хуже всего то, что они смеялись после того, как я не сумел опротестовать решение отправить Дарко в неизвестность, и что Роберт подлизывается к хозяину и так ему льстит. Но самым большим моим поражением было не хихиканье за моей спиной, а осознание того, что происходившее находилось в тесной связи с разочарованием из-за отъезда Дарко. Мне следовало бы возражать старшему врачу, я должен был сказать ему, что Дарко мой земляк. Может быть, у меня бы получилось. И я должен был попытаться. Ну а я положился на Роберта. Если бы я раньше поговорил с ним, конечно, было бы по-другому, но кто мог подумать, что Дарко выпишут, когда там находились прокурор, Юб и два француза, у которых не было температуры. Ну, у Юба была, но не такая, как у Дарко. И ведь я сам был виноват, так как занимался только больными и не дружил с руководством, мне не было дела до того, чтобы как-нибудь выдвинуться, у меня не было ни каких-либо амбиций, ни настоящей уверенности в себе. Я весь был в плену чудовищной обстановки и атмосферы, в которой я жил, мне и в голову не приходило вести себя в соответствии с правилами какой-то личной политики. И я вижу себя таким, каким я был, но сейчас я также знаю, что человек для другого человека может сделать намного больше, если людям приходится считаться с ним, с его согласием. И Дарко наверняка бы остался, если бы Роберт знал, что не может пройти мимо меня. А так он прошел. О, разумеется, я хорошо одел его, чтобы он не замерз на ящике в грузовике. И записку для Стане я ему дал, поскольку если бы не дал, то никто бы не позаботился о нем, когда он окажется в Доре среди моря больных. И Дарко в грузовике натянуто улыбался, как будто он знает, что находится в ящике под ним, но ради меня все равно приветлив и почти отважен. И только из-за него меня так задела та глупость с вырезкой из газеты. Как я мог оказаться таким дураком, что поставил портрет живой девушки среди мертвецов. Мертвого можно поставить среди живых, но наоборот нельзя. До живых людей лагерный доходяга даже мыслью не смеет дотрагиваться; раз и навсегда он должен оставить всех, кто жив, на невидимом, воображаемом острове вне земной атмосферы и не смеет приближаться к ним ни желанием, ни воспоминанием. Нельзя класть фотографию живой девушки среди гробов.
А Роберта я тогда раскусил, поэтому потом, когда нас эвакуировали из лагеря, во мне вызвало протест то, как он поступил с парнишкой чехом. Я видел в нем не врача, а тактика, который умеет приспосабливаться. Конечно, я не знаю, было бы ли лучше для Дарко, если бы он остался в Харцунгене. Но прокурора из Антверпена его люди взяли с собой и несли его от станции Целле до пустых казарм в Берген-Бельзене. Если судить по этому, то, возможно, и мне удалось бы забрать Дарко в наш вагон, и он, во всяком случае, находился бы в покое и в закрытом помещении. Ну что ж, тогда меня опередил старший врач со своим арлекинским паясничаньем. Сейчас я был бы совсем другим санитаром. О, конечно, в мире полного отрицания во мне опять бы засохла любая мысль о будущем, но потребность в организационной деятельности у меня бы осталась. Тогда же казалось, будто воплотилось в жизнь предчувствие приближающегося конца, омрачившее мой внутренний мир после окончания Первой мировой войны, и после того, как я пережил фашистские поджоги. О злой и неизбывной тоске для всех тогда верно сказал Сречко Косовел, но он не был одинок, когда носил ее в себе. Это то ощущение катастрофы, о котором говорит и Ионеску. И от этой тоски каждый спасался по-своему. Кто с помощью искусства, кто путем борьбы. Я старался мысленно отвлечься от нее, но я не мог ничем ее заменить. Я инстинктивно старался не думать о ней, это значит, что я оттеснил ее в подсознание, из которого она появлялась. Но в мире крематория, где катастрофа стала явью, я снова избегал ее, на этот раз с помощью работы. Автоматически я отказался от мыслей и воспоминаний и отдавался последовательности ежедневных, ежечасных, ежеминутных движений. Я материализовался в активной заботе о других. Но так же, как из моей деятельности была исключена не только всякая мысль, но и просто догадка о моем будущем, так же исключалась любая мысль о будущем и при заботе о других. Поскольку уже с раннего детства мне урезали любое представление о будущем, то вблизи незатухающих печей слияние с пустым сиюминутным существованием стало окончательным. Зло, которое тут превосходило все пределы воображения, уже издавна присутствовало во мне как угрожающая страшная тень. Поэтому сейчас мне часто кажется, что из-за слияния со страхом в этом мире я был как бесстрастная операторская камера, которая не сопереживает, а просто фиксирует. Ну, сравнение, конечно, неподходящее, поскольку дело было не в равнодушии, а в защитной системе, не допускавшей, чтобы чувства проникали в человеческое нутро и высасывали его сконцентрированную энергию самосохранения. Поэтому у операторской камеры, твердой и неподвижной от страха, была отобрана и память, она была отрезана от прошлого, как будто беспощадная кислота разъела всю эмульсию с целлулоидной ленты на старых бобинах. Дело в том, что я не помню, чтобы когда-то прилагал усилия, чтобы отклонить любую связь с прежней жизнью, я отделился от нее за короткое время, но основательно. Реакция других была естественней. Некоторые даже настолько абстрагировались от действительности, что все время жили в прошлом. Таков был Владо, и он помогал себе сказочной картиной любви, которую всегда оживлял по-новому, развивал и углублял ее.