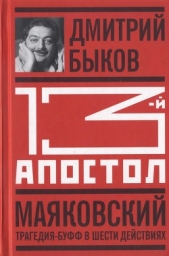Современницы о Маяковском

Современницы о Маяковском читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ходят тут, околачиваются, работать мешают. До чего я этих американцев не терплю. Ни уха ни рыла в искусстве не понимают, а туда же, интересуются. Эй ты, американец, смотри — это Ллойд Джордж.
Кивает.
— А вот это Клемансо. Понял?
Кивает.
Черемных пошел к Керженцеву: уберите от нас этого немого, мы с ним сговориться не можем.
— Отчего? Он же прекрасно говорит по-русски. Это Джон Рид.
Черемных — к Малютину, шепчет на ухо. Малютин произносит медовым голосом что-то вроде:
— Вы, американцы, кажется, мало интересуетесь искусством?
И Джон Рид на чистейшем русском языке отвечает, что лично он очень интересуется искусством, особенно советским…
Работали беспрерывно. Черемных жил близко и часто рисовал дома. Мы вдвоем с Маяковским поздно оставались в помещении РОСТА, и к телефону подходил Маяковский.
Звонок:
— Кто у вас есть?
— Никого.
— Заведующий здесь?
— Нет.
— А кто его замещает?
— Никто.
— Значит, нет никого? Совсем?
— Совсем никого.
— Здорово!
— А кто говорит?
— Ленин.
Трубка повешена. Маяковский долго не мог опомниться.
Этот разговор я помню, вероятно, дословно, столько раз Маяковский тогда рассказывал об этом.
Работали весело. Керженцев любил нас и радовался каждому удачному "окну".
Для рисования нам давали рулоны бракованной газетной бумаги. Обрезали и подклеивали ободранные края. Удобно! Ошибешься — и заклеишь, вместо того чтобы стирать.
Техника такая: Маяковский делал рисунок углем, я раскрашивала его, а он заканчивал — наводил глянец. В большой комнате было холодно. Топили буржуйку старыми газетами и разогревали поминутно застывающие краски и клей. Маяковский писал десятки стихотворных тем в день. Отдыхали мало, и один раз ночью он даже подложил полено под голову, чтобы не разоспаться. Черемных рисовал до 50-ти плакатов в сутки. Иногда от усталости он засыпал над рисунком и утверждал, что, когда просыпался, плакат оказывался дорисованным по инерции. Днем Маяковский и Черемных устраивали "бега". Нарезали каждый 12 листов бумаги, и по данному мной знаку бросались на них с углем, наперегонки, по часам на Сухаревой башне. Они были видны в окно.
Количество рисунков на плакате одного "окна РОСТА" было от двух до шестнадцати.
Художественный отдел — на особом финансовом положении. Натиск со стороны художников такой, что заведующий финчастью ставил мальчика у дверей своего кабинета, чтобы предупреждал об их пришествии. Когда мальчик видел приближающихся гуськом Маяковского, Черемных и Малютина, он орал истошным голосом: "Художники идут!" — и заведующий успевал улизнуть в другую дверь.
Каждая перемена ставок шла через Союз. Маяковский и Черемных носили туда образцы плакатов. Выбирали кажущиеся самыми сложными. Например, фабрика со множеством окон. По правде говоря, они были самые простые и рисовали их молниеносно, по линейке, крест-накрест. Но вид весьма эффектный, внушительный. Художники спрашивали: ну, как, по-вашему, сколько времени надо, чтобы сделать такой плакат?
— Дня три.
— Что вы! Окон одних сколько, ведь каждое нарисовать надо!
Была в нашем отделе и ревизия. Постановили, что Черемных — футурист и надо его немедленно уволить. Маяковского в этом не заподозрили! Он горячо отстаивал Черемных и отстоял.
Количество художников все прибывало, хотя отбор был строгий, и не только по признакам художественности. Один, например, принес очень недурно нарисованного красноармейца с четырехконечной звездой на шапке. Маяковский возмутился, заиздевался, и художник этот был изгнан с позором.
Размножались "окна" трафаретным способом, от руки. В первую очередь трафареты посылались в самые отдаленные пункты страны. Следующие — в более близкие. Оригинал висел в Москве на следующий день после события, к которому относилась тема. Через две недели "окна" висели по всему Союзу. Быстрота, тогда неслыханная даже для литографии.
Вслед за РОСТА мы стали получать заказы от ПУРа, транспортников, МКХ ("Береги трамвай"), Наркомздрава ("Прививай оспу!", "Не пей сырой воды!"), горняков.
Когда горняки принимали первые плакаты "Делайте предложения", им не понравилось, что рабочие красные, "будто в крови". Маяковский спросил: "А в какой же их цвет красить, по-вашему?" — "Ну в черный, например". — "А вы тогда скажете — "будто в саже".
Приняли красных.
Педагоги заказали азбуку. Черемных попробовал нарисовать два "окна"; им не понравилось, что азбука "политическая", и заказ аннулировали.
Умирание наше началось, когда отдел перевели в Главполитпросвет и заработали лито-, цинко- и типографии. Дали сначала две недели ликвидационные, потом еще две недели, а вскоре и совсем прикрыли.
Лирические стихи, написанные этим "ростинским" летом в Пушкине, Маяковский сочинял, гуляя по вечерам вдоль лесной опушки и где-то на дачных улицах.
Недалеко от домика Румянцевой в настоящей большой даче жили две сестры-дачницы. Обе хорошенькие. И на той же, кажется, улице — красивая рыженькая девушка. О младшей из сестер и о рыженькой написаны "Отношение к барышне" и "Гейнеобразное". Маяковский собирался написать цикл таких стихов, но пора было уезжать.
В Пушкине написана "Схема смеха". Ежедневно там проходил курьерский поезд, и к нему ходили торговать "бабы с молоком" и "мужики с бараниной".
Маяковский без конца с выражением пел "Схему смеха" на какой-то собирательный мотив, который я и сейчас помню:
Была бы баба ранена,
зря выло сто свистков ревмя —
но шел мужик с бараниной
и дал понять ей вовремя
И на тот же мотив, торжественно — так, как поют "славу":
Хоть из народной гущи,
а спас средь бела дня.
Да здравствует торгующий
бараниной средняк.
Мы несколько раз проводили лето в Пушкине.
II
Было это в 1919 году.
…Мы шли вдоль дачных заборов, внюхивались в сирень. Маяковский шагал посреди улицы и выразительно бормотал — сочинял стихи, на ходу отбивая ритм рукой.
Вдруг под ногами пискнуло. Мы круто затормозили, чуть не наступив на что-то живое. Нагнулись посмотреть — грязный комочек тычется носом нам в ноги и пищит, пищит…
— Володя!
В задумчивости обогнавший нас Маяковский в два гигантских шага оказался рядом, взглянул через забор и окликнул играющих ребят:
— Это чей щенок?
— Ничей!..
Владимир Владимирович брезгливо взял грязного щенка на руки, и мы, как по команде, повернули к дому.
Щенок был такой грязный, что Владимир Владимирович нес его на далеко вытянутой вперед руке, чтоб не перескочили блохи.
Щенок перестал пищать и в большой удобной ладони развалился, как в кресле. Маяковский старался издали рассмотреть его породу и статьи и установил, что порода — безусловно грязная!
Дома, в саду, только что поставили самовар. Вода уже чуть согрелась. Владимир Владимирович потрогал — в самый раз!
Посадили щенка в тазик и стали мыть. Раза три мылили, извели всю воду. Щенок сидел тихо, видно, мылся с удовольствием. Вытерли почти насухо, и Осип Максимович сел с ним на скамейку, на самое солнышко — досушивать, чтоб не простудился.
Я принесла теплого молока, накрошила в него хлеб. Поставили миску на траву и ткнули щенка носом. Щенок немедленно зачавкал и неожиданно быстро все съел. Налили еще полную мисочку — опять съел. Еще налили — осталось совсем чуть, на самом донышке.
Тогда, в 20-м году, с едой было трудно. Молоко в редкость, хлеба мало. Оказалось, что щенок съел весь наш ужин. Наелся до отвала. Живот стал толстый и тяжелый, совсем круглый. Песик терял равновесие и валился набок.