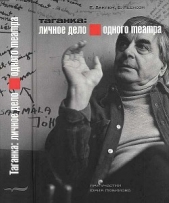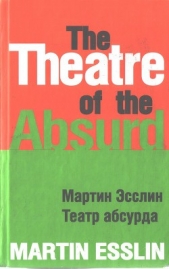Таиров

Таиров читать книгу онлайн
Имя Александра Яковлевича Таирова (1885–1950) известно каждому, кто знаком с историей российского театрального искусства. Этот выдающийся режиссер отвергал как жизнеподобие реалистического театра, так и абстракцию театра условного, противопоставив им синтетический театр, соединяющий в себе слово, музыку, танец, цирк. Свои идеи Таиров пытался воплотить в основанном им Камерном театре, воспевая красоту человека и силу его чувств в диапазоне от трагедии до буффонады. Творческий и личный союз Таирова с великой актрисой Алисой Коонен породил лучшие спектакли Камерного, но в их оценке не было единодушия — режиссера упрекали в эстетизме, западничестве, высокомерном отношении к зрителям. В результате в 1949 году театр был закрыт, что привело вскоре к болезни и смерти его основателя. Первая биография Таирова в серии ЖЗЛ необычна — это документальный роман о режиссере, созданный его собратом по ремеслу, режиссером и писателем Михаилом Левитиным. Автор книги исследует не только драматический жизненный путь Таирова, но и его творческое наследие, глубоко повлиявшее на современный театр.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«К чему понадобилась г. Гайдебурову эта чисто полицейская справка о моей фамилии?! Г. Коренблит очередным режиссером у него вовсе не служил, и вообще каким бы то ни было режиссером в Передвижном театре не служил.
…Снисходя (Боже, как высокомилостиво) к выраженному им желанию учиться режиссуре… я дал ему возможность и т. д. Это неправда».
Ему было грустно отвечать. С его ненавистью к конфликтам не хотелось ни в чем разбираться, да еще публично. Он усмотрел низость в поведении Гайдебурова, а низость он не прощал никому, тем более близким людям.
Таиров не любил себя казнить — накладно для души. Но он и не совершал такого, из-за чего нужно было бы казнить. Вот только если предал веру своих отцов…
Но это слишком красиво в предреволюционной России, когда возникала другая вера — марксистская, и ты вполне мог считать себя человеком мира.
Но там, где у человека роится сомнение, там оно и роилось, никуда не девалось, напоминало, напоминало, о чем оно там в современном семействе должно было напоминать?
— Мы же современные люди, — говорила Оленька. — Перестань казнить себя.
А он и не казнил, просто помнил, но так сильно и всегда, что через тридцать пять лет на вечере памяти Соломона Михоэлса попытался перевести еврейский гений в какую-то другую категорию, сделать Михоэлса наднациональным. Когда говорят о патриотизме, — дело плохо, но есть еще похуже, когда говорят о наднациональном. Это когда сам себя загоняешь в тупик. Но всё потом, потом — и Михоэлс, и наднациональное.
Он никак не мог привыкнуть к слову «выкрест» и, возможно, революции ждал так страстно, чтобы избавиться от этого слова. Никогда не совершал над собой насилия, а тут убедил себя, что надо, — и совершил. Малым искуплением стало то, что, роясь в потоке современных пьес, всегда выделял те, что про евреев в России, про участь отца, мамы, его собственную, если бы он не вырвался из Бердичева на эту непонятно откуда взявшуюся стезю, но все-таки его, именно его стезю, способствующую счастью.
Он даже успел параллельно Гайдебурову сыграть в такой пьесе — «Прощай, Израиль» Осипа Дымова.
— Вот мы уедем, — сказал он Оленьке. — Теперь я стал никто, обыкновенный гастролер, без имени, репутации, каких много в России, теперь я — чайка, Нина Заречная. Что будешь делать?
— Поедем с тобой, — сказала Оленька. — Договоримся, чтобы меня взяли на работу, пусть даже костюмером, стирать я умею, в свободное время буду учить актеров правильно ставить ударения, должны же Бестужевские курсы для чего-то пригодиться.
Знал бы Яков Рувимович, о, знал бы бедный Яков Рувимович, в каких мелочах погряз его сын, пробивая себе дорогу!
Мина Моисеевна умерла в 1907 году. Дети разъехались. Он все сидел и ждал, когда Саша привезет ему университетский диплом, но больше всего — и это знал один только Саша, — он ждал, что откроется дверь и в комнату войдет его сын — великий артист.
Пути Господни неисповедимы. Разобравшись с Гайдебуровым, как казалось ему, навсегда — а это слово он не любил, — Таиров переехал в Ригу.
По Евреинову, театр создал мир, но следует все-таки уточнить — не везде. Не в Риге, что недалеко от Петербурга, но совсем-совсем другой, проще, но как-то бесцеремонно проще, скучней, благообразней, чинней, что создавало в театре ощущение вечного покоя и позволяло никуда не торопиться.
Тезисы к спектаклю можно было бы читать по тетрадке, что Таиров ненавидел, но сразу понял, что следует произвести на своего нового хозяина, г-на Михайловского, прежде всего, солидное впечатление.
Его никто не торопил. Он чувствовал себя как муха в банке, в которой еще полно варенья.
Светлый, просторный город, несмотря на обилие людей, можно сказать, пустоватый, он напоминал народное гулянье — прошло и как будто не было ничего.
Мурочка вертелась весь день в театре, рядом с мамой, как всегда, ухитряясь никому не мешать. Встречая ее в коридоре, он удивлялся, что у него есть дочь, а она любила, забираясь в партере под кресла, прислушиваться к его репетициям. Бог знает о чем он там говорил, но это был голос ее отца, так редко слышимый в доме. Когда он приходил, она уже спала.
На первой же репетиции в Риге он сказал:
— Все мы каторжники, прикованные к одной тачке. Всё говорит мне — не оставлять ни за кулисами, ни внутри себя вспышек недовольства. Моя дверь открыта. Кто я? Модернист, стилизатор, натуралист или иной? Как бы я ни ставил, буду требовать от актера художественного реализма. А теперь прошу любить меня и жаловать.
Он засмеялся, и они тоже в ответ, но как-то жалобно, не понимая, что их ждет.
Он говорил им о МХТ, как о высшем сознании в хаосе театра, о реализме вещей, затмивших актера, о подражании жизни. И о Мейерхольде, сумевшем после того, как МХТ зашел в тупик, призвать к барельефной, статуарной, условной красоте. За что он Мейерхольду благодарен.
Но это новый тупик. Нельзя одним ключом открыть все пьесы. Он предлагает «индивидуацию». Пьеса диктует стиль, форму, которые обязательны, а не стиль театра диктует стиль пьесам.
Не надо бояться упреков в эклектизме. В искусстве эклектизм — рычаг его эволюции.
Пьеса должна находить выражение соответственно ее внутренней сущности.
Метод постановки — создание впечатлений, картин.
Игра актеров должна быть выражающей сущности, а не случайные характерности.
Здесь следовала ненавидимая Гайдебуровым цитата из Льва Толстого о насморке у Наполеона. Насморк этот в роли Наполеона ничего не добавит, наоборот, загородит от зрителя заметное важное.
— Вот главные моменты деятельности режиссера, — говорил Таиров. — Первое — ознакомить исполнителей с планами постановки, ее основаниями, ее рисунком (стиль мизансцены и внешних движений). Второе — на фоне этого рисунка исполнитель может начать импровизировать. Третий этап — все свести к целому, отбрасывая лишь недостатки. Потому что нужен ансамбль.
Все эти соображения в самом деле принадлежат ему. Он говорил как человек, сдерживающий новое, часто прямо противоположное тому, что он перед ними произносил.
Это новое требовало других слов, а главное, других усилий, для него нужно было прежде всего узнать самого себя, а это страшно, легче пройти вместе со всеми по дороге, отбрасывая ненужное, оставляя только свое.
В театре столько возможностей, сколько людей, идей же гораздо меньше, они все в тебе одном, а кто ты? Какую участь себе готовишь? Кем назовешь себя? И назовешь ли? Или попытаешься скрыть за уже найденным другими, чужим?
Подчинить себе душу как тело, выявить ее физические намерения. У Станиславского получилось, у Мейерхольда, а у него? Кто он рядом с ними — пигмей? Или равный? И самое главное — есть ли он вообще? Имеет ли право то, что он ощущает в себе, называть новым?
Он никогда ни в одном актере не видел себя со стороны. Ни один встреченный им актер не предъявлял ему возможностей его будущего театра. Хотя великих среди них было много, себя он к ним не причислял.
Потому что актеры — это наше продолжение в пространстве. Это мы сами — только идеальные. Таких он не встречал. И потому боялся бездоказательно говорить о своем. Но оно уже мерещилось.
В Риге он начал ставить «Анатэму» — корявое, нелепое, сложносочиненное, леонидоандреевское, поставленное уже и Станиславским, и Мейерхольдом. О том, как старый мудрый еврей сопротивлялся искушениям Сатаны.
Анатэму, то есть Сатану, играл он сам.
В этой пьесе он был вместе с автором на стороне евреев, хотя знал о своих соплеменниках куда больше Леонида Андреева.
В этом городе насмешка над местечковостью была в чести. Причем не над своей собственной, латышской, а над узаконенной, еврейской. Актеры готовились, кичась жалким своим незнанием, картавить и размахивать руками. Зная о происхождении Таирова, о его переходе в лютеранство, они надеялись, что и он пойдет на это с удовольствием.
Но он разгневался. До слез. Очевидцы могли поклясться, что заметили эти слезы. Он мог бы показать актерам, как ведут себя евреи, когда они несчастны, вспомнить бабушку, маму, ярмарку в Ромнах, невесту, насильно выданную замуж, но не стал этого делать.