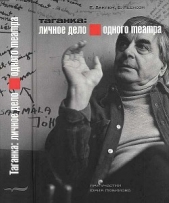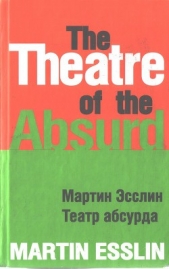Таиров

Таиров читать книгу онлайн
Имя Александра Яковлевича Таирова (1885–1950) известно каждому, кто знаком с историей российского театрального искусства. Этот выдающийся режиссер отвергал как жизнеподобие реалистического театра, так и абстракцию театра условного, противопоставив им синтетический театр, соединяющий в себе слово, музыку, танец, цирк. Свои идеи Таиров пытался воплотить в основанном им Камерном театре, воспевая красоту человека и силу его чувств в диапазоне от трагедии до буффонады. Творческий и личный союз Таирова с великой актрисой Алисой Коонен породил лучшие спектакли Камерного, но в их оценке не было единодушия — режиссера упрекали в эстетизме, западничестве, высокомерном отношении к зрителям. В результате в 1949 году театр был закрыт, что привело вскоре к болезни и смерти его основателя. Первая биография Таирова в серии ЖЗЛ необычна — это документальный роман о режиссере, созданный его собратом по ремеслу, режиссером и писателем Михаилом Левитиным. Автор книги исследует не только драматический жизненный путь Таирова, но и его творческое наследие, глубоко повлиявшее на современный театр.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Зрителям нравилось, на эти спектакли можно было водить детей, любовь выглядела безобидной.
Уходить из театра не стоило, все как-то уладилось, память о Гамлете стерлась, хотя в дни спектакля, а он игрался часто, им овладевала тоска, не хотелось идти играть Лаэрта, и он начинал особенно страстно мучить Оленьку бесконечными разговорами об отъезде. Ему начинало казаться, что неплохо бы расстаться с Петербургом и уехать к дяде Мише в Аргентину.
О Южной Америке он говорил часто, там — океаны. Он сетовал, что не стал моряком, в Бердичеве не рождаются адмиралы, он уже взрослый, а есть ли у него морская болезнь — не знает, выдержит ли качку — не знает.
Он брал чистый лист и начинал вычерчивать Анды — острые углы скал с глубокими тенями впадин, резкие ритмы рисунка превращали лист в неряшливый и рваный. Он томился.
У Комиссаржевской происходили чудеса. Контракт с Мейерхольдом был прерван, тот ушел в Александринку. Театром овладел Федор Федорович, правда, не совсем удачно. И сразу же внес свои коррективы в планы старых мейерхольдовских постановок, «Сестры Беатрисы» и «Жизни человека».
Потом на место Мейерхольда пришел Евреинов.
Третейский суд рассмотрел мейерхольдовский протест о невозможности разрыва контракта посреди сезона и поддержал Комиссаржевскую.
Евреинов же, придя к Комиссаржевской, начал резко и не без юмора. То, что он относился к театру несерьезно, было ясно немногим, столько всего о театре им было понаписано. Он готов был поставить весь мир на колени перед алтарем театра.
Но искусство театра было трудно обмануть.
После первых двух спектаклей он поставил «Саломею» Уайльда.
По сравнению с Мейерхольдом Евреинов был вполне светским человеком, юмор ему никогда не отказывал. Он поражал Петербург чудачествами больше на страницах книг, чем в личных проявлениях. С ним было приятно. Он возникал неожиданно, чтобы поразить и тут же исчезнуть.
Хмурый человек Комиссаржевский хотел рассеять Евреиновым кошмар мейерхольдовского пребывания в театре. Стилизованная реальность на сцене сменилась стилизованной реальностью вообще. Жить стало легче.
Поставил он «Саломею», как всегда, скорее с намерением поразить публику, чем сделать что-то принципиально новое. Пьесу Таиров любил, но узнать ее в постановке Евреинова не мог. Это были принципы евреиновского театра, выраженные впрямую, иллюстративно. Так как в спектакле не была занята Вера Федоровна, посчитавшая себя слишком старой для Саломеи, Евреинов разыгрался вовсю.
Следовало стереть даже память о Мейерхольде, и сделать это лучше его же оружием — крайней остротой постановки.
Евреинов был скорее интеллектуалом в режиссуре, как и Комиссаржевский — художником. В актерском же деле оба они оставались дилетантами. Кроме таланта, им не хватало мейерхольдовской страстности. И еще кое-чего.
Особенно Евреинову. Посвященным всегда казалось, что ему нравится не играть в театре, а играть в театр. Это было место, где он мог позволить себе все. С большой легкостью совершал ошибки, ничуть не раскаиваясь, потому что сам не знал, чего искал. Позволял себе быть предельно экстравагантным. Но быть таковым в остроумнейшем театре малых форм «Кривое зеркало» — одно, а в театре Комиссаржевской все-таки следовало вести себя поосторожней.
Евреинова это не смущало. Он всю жизнь объяснялся в любви к театру, как никто до него, но всех больше любил самого себя. Новаторство Евреинова было в прелести безответственности.
Время конечно же сделало каждого из этих режиссеров мучеником, но оно же все расставило по местам.
И вот вышла «Саломея». Работа над ней сопровождалась скандалом и потому вызвала необыкновенный ажиотаж. Разрешенную цензурой пьесу запретил Священный синод — ему казалась кощунственной демонстрация на сцене отношения падчерицы царя Ирода Саломеи к пророку Иоканаану.
Комиссаржевская отчаянно сопротивлялась запрету, подстрекаемая Федором Федоровичем, она вложила в постановку все сбережения, но «Саломею» спасти не удалось. Единственное, что разрешили, — это публичную генеральную.
«Саломея» создавала иллюзию новаторства своей хаотичностью и бессмысленностью. Она была пародией на гениальность. Оформлял ее новый друг Веры Федоровны, художник Калмаков, полная противоположность Евреинову, демонический человек, чуть ли не сатанист. Ему она позволяла всё.
Получилась пародия на спектакли Мейерхольда. Возможно, неосознанно, как всегда, талант пародиста взял вверх у Евреинова над серьезностью намерений драматического режиссера.
Единственное, что примиряло этот спектакль с Таировым, — кратковременность жизни самого спектакля. Но он и в самом деле выглядел эфемерно, напоминал прихотливый рисунок на крыльях бабочки. Не поддержанный подлинной режиссерской страстью, он становился ненадежным, по ходу спектакля осыпался.
Весь перепоясанный, перекореженный, задекорированный. Сплошные узоры — узоры костюмов, узоры мизансцен, музыкальные узоры. Пряность Востока в этой, в общем-то, балансирующей на грани запретного, пьесе выглядела вполне кафешантанно.
По разлинованному полу выхаживали разлинованные люди, пространство напоминало прихотливую и бессмысленную татуировку, которая с появлением каждого человека становилась все сложней.
Таиров смотрел с интересом. Здесь было много оригинальных намерений и никакого проку, никакого намека на присутствие режиссерского сердца. То ли принципиально, то ли просто из-за отсутствия этого самого сердца.
Сквозь общую рябь постановки невозможно было пробраться к сути. Каждая деталь от нее уводила, не исключено, что это тоже входило в задачу изощренного и извращенного евреиновского представления о театре.
Таиров смотрел, прощаясь. Он прощался с Мейерхольдом, Комиссаржевской, с тем самым новым театром, который можно не принимать, но не считаться с ним нельзя. Он существовал, в нем присутствовали мейерхольдовское неистовство и подлинный интерес Веры Федоровны к новому.
А тут — расточительство, баловство, которые мог позволить только, в сущности, ко всему, кроме себя, равнодушный человек.
Это было так экзотично, что для непосвященного могло сойти за талантливость.
Мейерхольда же на этой репетиции не было, Таиров представил, как он наслаждался каждым новым слухом об этом спектакле.
Тут начинались генеральские страсти между известными людьми, в этой борьбе он принимать участие не мог и не хотел.
О спектакле он предпочитал никогда не говорить до октября семнадцатого года, пока не поставил свою «Саломею» в Камерном, но и тогда он не позволил себе обидеть Евреинова.
Спектакль у Комиссаржевской был запрещен — крайне редкое тогда событие, возбудившее общественность не столько вандализмом по отношению к искусству, сколько самим характером запрещения. Все было затеяно правой частью Госдумы, черносотенным Союзом русского народа во главе с Пуришкевичем. Они пообещали избить актеров и теперь сидели в ложе всем составом правления.
Все это было очередной глупостью власти, припутавшей к театру политику, и ничего, кроме омерзения, у Таирова не вызвало.
Очень грустно было видеть слегка сутулившуюся фигурку Веры Федоровны за режиссерским столиком рядом с Евреиновым. Пальцы ее от волнения теребили локоны над шеей, пытаясь спасти прическу, которая от ее движений окончательно растрепалась к концу спектакля.
Прощайте, Вера Федоровна!
Здесь же, в здании Комиссаржевской, он понял, что сделает еще одну попытку режиссировать, и спектакль этот будет «Дядя Ваня» по пьесе Чехова. Глядя на противоположное, он начинал догадываться о своем.
Слухи о репетициях на музыке появились в петербургских газетах, но оставили театральную общественность равнодушной. Может быть, кроме князя Сергея Волконского, оберегающего честь музыки, заключенной в самом слове, и воспринимающего попытку Таирова как своего рода кровосмешение. Его протест так и остался единственным отголоском спектакля.
Кроме эксперимента с музыкой польза от этой работы для Таирова заключалась в том, что собственный спектакль должен защищать он, один, больше некому защищать. А для этого необходимо не делать факт его рождения тайной, пусть кричит, и намерения, даже до конца не осуществленные, но тоже интересные, попытаться не скрыть, и тогда даже такой матерый волк, как Гайдебуров, стараясь не уронить себя в глазах общественности, станет снисходительней. Саша не знал, что его этому научило — злость за «Гамлета» или природная смекалка, — но будущим своих спектаклей с этого дня он занимался всю жизнь сам.