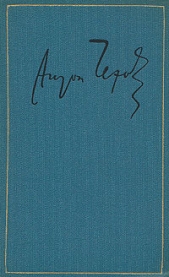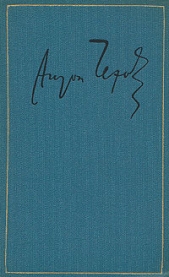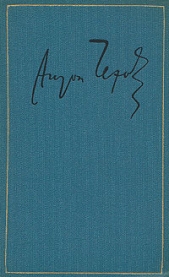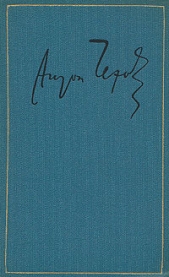Чехов. Жизнь «отдельного человека»
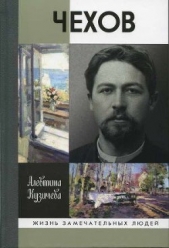
Чехов. Жизнь «отдельного человека» читать книгу онлайн
Творчество Антона Павловича Чехова ознаменовало собой наивысший подъем русской классической литературы, став ее «визитной карточкой» для всего мира. Главная причина этого — новизна чеховских произведений, где за внешней обыденностью сюжета скрывается глубинный драматизм человеческих отношений и характеров. Интерес к личности Чехова, определившей своеобразие его творческого метода, огромен, поэтому в разных странах появляются все новые его биографии. Самая полная из них на сегодняшний день — капитальное исследование известного литературоведа А. П. Кузичевой, освещающее общественную активность писателя, его личную жизнь, историю создания его произведений. Книга, выходящая в серии «ЖЗЛ» к 150-летию со дня рождения Чехова, рекомендуется к прочтению всем любителям и знатокам русской литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как во времена работы над предыдущими ролями, так и теперь Книппер заговорила репликами своей героини. Она искала тон к «своей» Раневской. Может быть, поэтому иногда ее письма мужу казались посланиями к тому человеку в Париже, о котором думала Любовь Андреевна. К человеку, которого Раневская любила вопреки рассудку, здравому смыслу, заботам о родной и приемной дочерях. Только его одного и любила и готова была оставить ради него всё и всех, отдать ему всё.
Книппер пребывала в радостном возбуждении и не скрывала этого: «Я вот пишу тебе и ежеминутно прерываю, начинаю думать о роли и забываюсь. Я это люблю. Какое мучение, пока не поймаешь основного тона, пока не влезешь в роль, как в перчатку!» Этим волнением она невольно оттеняла ялтинское заточение Чехова. Что-то происходило в театре. Там, наконец, приступили к репетициям «Вишневого сада». Но кто ставит? Как распределились роли? Когда премьера? В Москве решалась судьба пьесы, а он сидел в Ялте.
В один из ноябрьских дней Чехов написал давнему знакомому: «Я все похварываю, начинаю уже стариться, скучаю здесь в Ялте и чувствую, как мимо меня уходит жизнь и как я не вижу много такого, что как литератор должен бы видеть. Вижу только и, к счастью, понимаю, что жизнь и люди становятся все лучше и лучше, умнее и честнее — это в главном, а что помельче, то уже слилось в моих глазах в одноцветное, серое поле, ибо уже не вижу, как прежде».
Осенью и зимой жизнь доходила до Ялты лишь в газетных сообщениях. Чехов внимательно прочитывал столичные и провинциальные издания. Суворин по-прежнему печатал свои «Маленькие письма». Рассуждал о событиях на Балканах, пророча сербам новые испытания. Назвал самые, на его взгляд, злободневные вопросы общественной жизни: земельный, рабочий, еврейский, театральный. Но остановился на главном: земельном, на судьбе помещичьего и мужицкого хозяйства в земледельческом государстве. В те же дни начал одно из «писем» наблюдением: «Двадцатый век зарекомендовал себя с первых же своих лет каким-то нервным подъемом и выдвинул вопросы, которые точно ожидали того, чтобы XIX век затворил за собою двери».
Он размышлял о жребии России, которая «молода и сильна», а то, что состарилось, то отваливается само по себе. Правда, как и в предыдущие годы, в дневнике был не столь оптимистичен: «Мне кажется, что не только я разваливаюсь, не только „Новое время“ разваливается, но разваливается Россия».
Осенью 1903 года особое волнение вызывали слухи о войне с Японией. Еще 30 сентября Чехов написал Книппер: «Сегодня в нашей газете крупными буквами напечатано, что флот ушел в Корею с запечатанными пакетами… Ой, уж не война ли?»
Всё это делало «ялтинское заточенье» невыносимым, Чехов чувствовал себя с каждым днем все хуже и хуже. Но оставаться долее один не мог. Куда угодно — в Москву, за границу, но только бы двигаться, сменить обстановку.
Он шутил: «Милая моя начальница, строгая жена, я буду питаться одной чечевицей, при входе Немировича и Станиславского буду почтительно вставать, только позволь мне приехать». «Позволение» последовало 29 ноября 1903 года. В Москве наконец-то установилась морозная погода. Как раз в этот день Чехов писал Книппер: «Если бы ты знала, как скучно стучит по крыше дождь, как мне хочется поглядеть на свою жену. Да есть ли у меня жена? Где она?»
В Москву Чехов приехал 4 декабря.
Его облик в канун нового, 1904 года сохранила любительская фотография. Перемена, происшедшая с Чеховым, сокрушительна. Чрезвычайно похудевший, он походил на тщедушного подростка. В выражении глаз угадывались измучившие его слабость и усталость. Современники запомнили свое удручающее впечатление. Россолимо описал в воспоминаниях, опираясь на свои дневниковые записи, встречу с Чеховым 16 декабря 1903 года: «Хоронили Алтухова, еще один товарищ-однокурсник доработался. На отпевании в университетской церкви меня взял за локоть Чехов. <…> Он очень изменился за последние полгода: похудел, пожелтел, и лицо покрылось множеством мелких морщин. И все-таки какое у него всегда доброе, славное и молодое лицо. Удивленно, с доброй, мечтательной улыбкой глядя вдаль из-под пенсне, он нежным баском подпевал хору».
Запись сохранила то, о чем говорили однокурсники. Чехов в шутку гадал, кто из них двоих раньше последует за Алтуховым. А когда они встречали на кладбище погребальное шествие, сказал о студенте и курсистке, которые шли впереди с венком «от учеников»: «Вот они, те, которые хоронят старое и вместе с ним вносят в царство смерти живые цветы и молодые надежды…»
В том, как в зимних сумерках втягивалась в кладбищенские ворота похоронная процессия, было, наверно, что-то схожее с тем сном, который повторялся в детские и отроческие годы Чехова («обвалившиеся ворота кладбища…»). А в разговоре о «царстве смерти» — с тем, что прочитывалось в его сочинениях и письмах: спокойное размышление о бренности всего живого, сущего. Казалось, ощущение недолговечности давным-давно не отпускало Чехова. Может быть, оно так же сопрягало рассказы, повести и пьесы, как и острое желание жизни, окрашивало будни. В том и другом просвечивало еще нечто…
Однажды, весной 1888 года, Чехов ответил из Сум, как часто в те годы, пространным письмом Суворину на его замечания о повести «Огни». Точнее, о споре героев. Один, инженер Ананьев, человек в годах («ни молод, ни стар»), любуясь насыпью железной дороги, говорил о «делах рук своих»: «В прошлом году на этом самом месте была голая степь, человечьим духом не пахло, а теперь поглядите: жизнь, цивилизация! <…> а после нас, этак лет через сто или двести, добрые люди настроят здесь фабрик, школ, больниц и — закипит машина! А?»
На этот панегирик студент Штенберг «пробормотал» в раздумье: «Когда-то на этом свете жили филистимляне и амалекитяне, вели войны, играли роль, а теперь их и след простыл. Так и с нами будет. Теперь мы строим железную дорогу, стоим вот и философствуем, а пройдут тысячи две лет, и от этой насыпи и от всех этих людей, которые теперь спят после тяжелого труда, не останется и пыли. В сущности, это ужасно!»
Суворин остался недоволен спором, отсутствием ясного ответа. Чехов настаивал на своем: «Мне кажется, что не беллетристы должны решать такие вопросы, как Бог, пессимизм и т. п. <…> Художник должен быть не судьею своих персонажей и того, о чем говорят они, а только беспристрастным свидетелем. <…> Мое дело только в том, чтобы быть талантливым, т. е. уметь отличать важные показания от не важных, уметь освещать фигуры и говорить их языком». Читателям он отводил роль присяжных, они «делают оценку».
В этом же письме Чехов передавал первые впечатления от новых мест. И «важными», судя по интонации, по очевидному интересу, ему показались «старые запущенные сады», «забитые наглухо, очень поэтичные и грустные усадьбы, в которых живут души красивых женщин, не говоря уж о старых, дышащих на ладан лакеях-крепостниках, о девицах, жаждущих самой шаблонной любви».
Он будто продолжил разговор своих героев о бренности, о неизбежности смерти, о бесследном исчезновении, как он написал Суворину в том же году в другом письме, не только усадеб, садов, но «массы племен, религий, языков, культур». Все увиденное тогда, летом 1888 года, показалось Чехову знакомым «по старинным повестям и сказкам». Через 15 лет, в пьесе «Вишневый сад», вдруг всплыли те давние впечатления: старый лакей-крепостник, наглухо забитый дом, души красивых женщин, девицы, ждущие замужества.
Однако ни на сказку, ни на старинную повесть в романтическом духе этот сюжет не походил. Запущенный вишневый сад начали вырубать, не дождавшись отъезда прежних хозяев. И дом обречен тоже. Гармония человека и природы, дома и сада разрушалась из-за нерадения прежних хозяев. Волею нового владельца она уничтожалась.
Старый верный лакей по недосмотру оставлен в запертом доме. А последняя ремарка — «Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву» — казалась созвучной настроению молодого героя повести «Огни», думавшего об исчезновении народов, городов, цивилизаций.