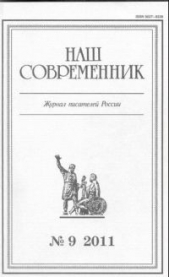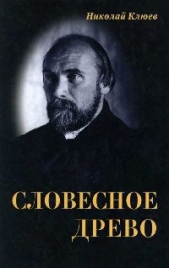Николай Клюев
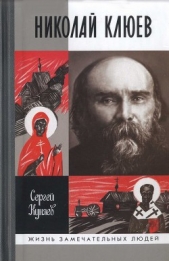
Николай Клюев читать книгу онлайн
Николай Клюев — одна из сложнейших и таинственнейших фигур русской и мировой поэзии, подлинное величие которого по-настоящему осознаётся лишь в наши дни. Религиозная и мифологическая основа его поэтического мира, непростые узлы его ещё во многом не прояснённой биографии, сложные и драматичные отношения с современниками — Блоком, Есениным, Ивановым-Разумником, Брюсовым, его извилистая мировоззренческая эволюция — всё это стало предметом размышлений Сергея Куняева, автора наиболее полной на сегодняшний день биографической книги о поэте. Пребывание Клюева в Большой Истории, его значение для современников и для отдалённых потомков раскрывается на фоне грандиозного мирового революционного катаклизма, включившего в себя катаклизмы религиозный, геополитический и мирочеловеческий.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Есть другие люди, для которых земля не сказка, но чудесная быль, которые знают стихию и сами вышли из неё, — „стихийные люди“. Они спокойны, как она, до времени, и деятельность их, до времени, подобна лёгким, предупреждающим подземным толчкам… Они видят сны и создают легенды, не отделяющиеся от земли: о храмах, рассеянных по лицу её, о монастырях, где стоит Статуя Николая Чудотворца за занавесью, не виданная никем, о том, что, когда ветер ночью клонит рожь, — это „Она мчится по ржи“, о том, что доски, всплывающие со дна глубокого пруда, — обломки иностранных кораблей, потому что пруд этот — „отдушина океана“. Земля с ними, и они с землёй, их не различить на её лоне, и кажется порою, что и холм живой, и дерево живое, и церковь живая, как сам мужик — живой. Только всё на этой равнине ещё спит, а когда двинется — всё, как есть, пойдёт: пойдут мужики, пойдут рощи по склонам, и церкви, воплощённые Богородицы, пойдут с холмов, и озёра выступят из берегов, и реки обратятся вспять; и пойдёт вся земля».
Тут и пришёл черёд клюевского письма. Блок много цитировал его наряду с письмом некоего сектанта Д. Мережковскому и, сопоставляя сладкозвучные строки сектантского гимна с песней, приведённой Клюевым, приходил к убийственному выводу: «В дни приближения грозы сливаются обе эти песни: ясно до ужаса, что те, кто поёт про „литые ножики“, и те, кто поёт про „святую любовь“, — не продадут друг друга, потому что — стихия с ними, они — дети одной грозы; потому что — земля одна, „земля Божья“, „земля — достояние всего народа“».
Там, где в свои права вступает жажда вселенской справедливости, жажда Тысячелетнего Царствия Божия на земле, — там не удовлетворишь её ни «экономикой», ни мнимым «единением», ни подачками с государственного или интеллигентского стола… «Мы ещё не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа. Мы видим себя уже как бы на фоне зарева, на лёгком кружевном аэроплане, высоко над землёю; а под нами — громыхающая и огнедышащая гора, по которой за тучами пепла ползут, освобождаясь, ручьи раскалённой лавы».
Тональность статей Блока меняется, в них отчётливо становятся слышны эсхатологические интонации, предчувствие грядущего апокалипсиса нагнетает тревогу, всё усиливается трагедийность тона. И эта перемена непосредственно связана с ещё одним клюевским письмом, которое Блок получил в конце октября 1908 года, ещё до своих выступлений.
Двенадцатого сентября, в разгар работы над «Песней судьбы», он помечает в записной книжке: «Записывать просто разговоры. Клюев. Новая Драма (тишина, зеркала вод в лесу, мужичья поступь). Мечты о журнале с традициями добролюбовского „Современника“. Две интеллигенции. Дрянность „западнических“ кампаний („Весы“, мистический анархизм и т. п.). Единственный манифест и строжайшая программа. Чтоб не пахло никакой порнографией, ни страдальческой, ни хамской. Распроститься с „Весами“. Бойкот новой западной литературы. Революционный завет — презрение».
Связавшись с «Золотым Руном», он предлагает туда же присылаемые стихи Клюева, два из которых печатаются там в октябре. Он присылает Клюеву свою новую книгу «Земля в снегу» — и получил на неё отзыв.
Поначалу Клюев благодарит за книгу и рассыпается в зачинных оговорках: «…Я очень стесняюсь много говорить про неё. Вы ведь сами человек образованный, имеете людей, понимающих искусство и творящих прекрасное, но что по-ихнему неоспоримо хорошо, то, по-моему, быть может безобразно, и наоборот. Взгляды на красоту больно заплёвывать, обидно и горько, может, и Вам выслушивать несогласное с этими взглядами. Если я читал Вашу „Нечаянную Радость“ и, поняв её по-своему, писал Вам про неё кой-что хорошее, то из этого ещё не значит, что я верно определю и „Землю в снегу“».
Но дальше: «До „Нечаянной Радости“ я не читал лучшего, а потому прельстился ею, как полустёртой плитой, покрытой пёстрыми письменами, затейливо фигурными знаками далёкой, незнаемой руки, в которых нужно разбираться с тихостью сердца и с негордостью духа. Я не умею читать книгу с пеной у рта, и если вижу в написанном много личной гордости, самомнения, то всегда смотрю на это, как путник на развалины Ниневии: „Вот, мол, было царство, величие и слава, а стал песок попираемый!..“».
Снова идут сердечные слова о «Нечаянной Радости»: «Отдалённая, уплывающая в пьяный сумрак городских улиц музыка продрогшего, бездомного актёрского оркестра, скрашенная двумя-тремя аккордами псалтири. Уличная шарманка с сиротливой птичкой, вынимающей за пятачок розовый билетик счастья, с хозяином-полумущиной, с невозмужалой похотью в глазах, с жаждой встречи с вольной девой в огненном плаще, который играет и поёт только для того, чтобы слушали…»
Блок, читая новое послание, впитывает каждое слово и уже не в силах оторваться от листка. А Клюев всё заманивает, ласкает, неназойливо делится наболевшим, понятным лишь ему и Блоку: «Я недоумеваю, за что бранили меня публицисты, когда я высказал Вам впечатление, оставшееся от чтения этой книги, по бумажной ли привычке лаяться, по подозрению ли Вас в рекламе (хотя я не знаю, что было рекламного в моих словах) или по брезгливому представлению о нашей серости, по барскому отношению к простому человеку… Мне чувствуется, что отношения людей литературы умышленно нелепы и лживы. Литературные судьи, как и уголовные, избравшие своей эмблемой виселицу, служат смерти, осуждают во имя дьявола, а не во имя Духа истины, а потому и дела рук их ни на волос не устраняют лжи жизни — безобразия отношений человеческих, а прекрасному даже вредят, потому что оно всегда робкое, по капле нарождающееся».
Клюев только-только входит в литературу, а нелепость и лживость отношений в тамошнем мире чувствует сразу — по реакции на блоковский доклад. «Скажу я, что Ваши стихи красивы, — „господа“ публицисты догадаются: „Верно, Блок дал на сороковку“»… А ведь посмотришь то же «Золотое Руно» — и увидишь, как наряду с блоковскими статьями и клюевскими стихами там поминают «последнюю вспышку польской независимости», естественно, «жестоко погашенную», при описании польской старины в Румянцевском музее; прочитаешь первую песнь поэмы «Херувим» Станислава Пшибышевского под названием «Стезёю Каина», где сам Каин восклицает: «Ты изгнал нас из рая, а я создал рай новый, ещё более мощный, объемлющий небо и землю!»; «насладишься» рассуждениями Константина Бальмонта о «чувстве расы в творчестве» и о «нашем литературном сегодня»: там Вячеслав Иванов — «словесник-дистиллятор… так-таки чувствуешь аптеку, и очень доброкачественные трубочки и пузырьки, наполненные смесями разных эссенций», но где «до луга и леса довольно далеко», а Блок «неясен, как падающий снег, и как падающий снег творит мечту. Приведёт ли куда, не знаю, хорошо, что порою уводит её…» Всё — от ума, а не от сердца, не от души. Всё — игра, а не жизнь. Даже остро подмеченное Георгием Чулковым сходство Блока «Снежной маски» и героя «Снежной королевы» Андерсена — всё словно напоминает складывание из льдинок красивого узора… Нет, он, Клюев, чувствует Блока иначе.
«…„Земля в снегу“ — символ голубиной чистоты и Духа высоты, но старый грех, караморная мусорность жизни, уродливой изначала, изъязвили целомудренный белый покров бурыми, как сукровица, проталинами „культурной“ страсти, за которой, несмотря на пышный художественный альков, настойчиво маячит мёртвый провалившийся рот. Смертная ложь нашего интеллигента это, как мне кажется, не присущее ему по Духу вавилонское отношение к женщине. Многие стихи из Вашей книги похабны по существу, хотя наружно и прекрасны — сладкий яд в золотой, тонкой чеканки чаше, но кто вкусит от неё? Питьё усохнет, золотой потир треснет, выветрится и станет прахом. Смело кричу Вам: не наполняйте чашу Духа своего трупным ядом самоуслаждения собственным я — я!»
И Блок, для которого жизненно важен диалог с Клюевым в этот период, Блок, знающий цену любому печатному или устному уничижающему слову, принимает, как должное, и этот упрёк Клюева, и следующий, ещё более болезненный: «Отдел „Вольные мысли“ — мысли барина-дачника, гуляющего, пьющего, стреляющего за девчонками „для разнообразия“ и вообще „отдыхающего“ на лоне природы. Никому это не нужно, кроме Чулкова, коему посвящены эти „Мысли“».