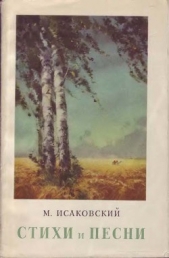Дорогой длинною...

Дорогой длинною... читать книгу онлайн
В настоящее издание включены воспоминания, стихи и песни, рассказы и письма Александра Николаевича Вертинского (1889-1957) — поэта, композитора, артиста, человека незаурядной судьбы.
Мемуары дают читателю вполне реальное представление о детстве, юности, первых шагах е искусстве А.Вертинского, о горести эмигрантских скитаний, о его тяге к отечеству, о возвращении на «милую навеки» родину после двадцатитрехлетнего странствия по свету.
В сборнике публикуются письма А. Вертинcкого, адресованные разным лицам, жене, дочерям. Вернувшись на родину в 1943 году, он впоследствии мучительно прозревал в созданной Сталиным удушливой атмосфере. Это была тихая невидимая миру трагедия о которой можно узнать из его писем. Только искренняя любовь публики была тем источником, который поддерживал в нем жизненные силы.
Такова эта одновременно и счастливая и трагическая судьба.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На вакантном после отречения Николая престоле сидел «Александр четвёртый» — рыжий присяжный поверенный в защитном френче и крагах с причёской бобриком, как у фельдфебеля. Это был актёр. И плохой актёр!
К нему скоро приклеилась этикетка «Печальный Пьеро Российской революции».
Собственно говоря, это был мой титул, ибо на нотах и афишах всегда писали: «Песенки печального Пьеро». И вообще на «Пьеро» у меня была, так сказать, монополия! Но… я не возражал!
По улицам водили «разоружённых» городовых, прятавшихся кто у кумы, а кто в подвалах «раскамуфлированных» приставов и околоточных с перекошенными от страха лицами. А в милиции, в уголовном розыске, сидела в качестве главного комиссара тоненькая, тщедушная и анемичная, юридического факультета девица Сонечка Вайль и испуганно косилась на блестящий наган, прикрытый сумочкой. Наган лежал на столе перед ней — он полагался ей по чину, а она его смертельно боялась. Я был знаком с Сонечкой. Это была приличная, хорошенькая и несколько рахитичная девственница-барышня, тщательно охраняемая своими родителями. Мы, по их просьбе, по очереди провожали её обычно домой после разных диспутов и лекций, ибо она очень боялась возвращаться одна по тёмным улицам.
На площадях, у памятника Скобелеву, на Страстном, у Манежа с утра до вечера шли митинги. Но все оставалось пока на своих местах: магазины торговали, кафе тоже, театры работали, спешно перестраивая репертуар. В маленьком Петровском театре, где я выступал, режиссёр Давид Гутман, большой шутник и выдумщик, ставил наспех сколоченную пьеску «Чашка чая у Вырубовой»; предприимчивые кинодельцы — Дранков, Перский и другие — уже анонсировали фильмы с сенсационными названиями вроде «Тайна Германского посольства» и пр. Появились новые деньги, сразу же названные «керенками» в честь их создателя. Они были маленькие, имели жалкий вид и походили на этикетки от лекарств. Спекулянты стали сразу «зарабатывать» их целыми простынями.
Все чего‑то ждали. Не может быть, чтобы все так спокойно кончилось! Ведь это же революция!.. И — не страшная? Это было подозрительно.
— Ничего! Ещё увидите! Подождите! — говорили скептики. — Это ведь только цветочки! А ягодки‑то впереди!
Но на нас, богему, эта революция не повлияла никак. Как будто её и не было. Пооткрывались новые кафе, «Питерск» на Кузнецком и «Кафе поэтов» в Настасьинском. Жёлтых кофт мы уже не носили, но чудили, как всегда. Впрочем, это уже не производило особого впечатления. К нам уже привыкли и слушали нас спокойно, со снисходительными улыбочками. Скандал не может длиться бесконечно! Футуризм сделал своё дело, обратив на нас внимание общества, и больше он уже не был нужен ни нам, ни публике. Приезжал из Италии «отец футуризма» Маринетти, но большого успеха уже не имел. Постепенно мы стали отходить от футуризма. Каждый уже шёл своим путём. В итоге футуризм ничего и никого не создал. Маяковский? Но Маяковский был велик сам по себе, независимо ни от чего. Его цели и устремления были иными и совсем других масштабов.
А я в это время (как уже вам докладывал) стал «знаменитостью» на московском горизонте и жалобно мурлыкал свои «ариетки» в костюме и гриме Пьеро. От страха перед публикой, боясь своего лица, я делал сильно условный грим: свинцовые белила, тушь, ярко-красный рот. Чтобы спрятать своё смущение и робость, я пел в таинственном «лунном» полумраке, но дальше пятого ряда меня, увы, не было слышно. И заметьте, это в театрике, где всего было триста мест! Впечатлительный и падкий на романтику женский пол принимал меня чрезмерно восторженно, забрасывая цветами. Мне уже приходилось уходить из театра через чёрный ход. Мужчины хмурились и презрительно ворчали:
— Кокаинист!
— Сумасшедший какой‑то!
— И что вы в нем нашли? — недоуменно спрашивали они женщин.
Я и сам не знал. Петь я не умел! Поэт я был довольно скромный, композитор тем более наивный! Даже нот не знал, и мне всегда кто‑нибудь должен был записывать мои мелодии. Вместо лица у меня была маска. Что их так трогало во мне?
Прежде всего наличие в каждой песенке того или иного сюжета. Помню, я сидел на концерте Собинова и думал: «Вот поёт соловей русской оперной сцены… А о чем он поёт? Розы-грёзы. Опять розы. Соловей — аллей. До каких пор? Ведь это уже стёртые слова! Они уже ничего не говорят ни уму, ни сердцу».
И я стал писать песенки-новеллы, где был прежде всего сюжет. Содержание. Действие, которое развивается и приходит к естественному финалу. Я рассказывал какую‑нибудь историю вроде «Безноженьки» — девочки-калеки, которая спит на кладбище «между лохматых могил» и видит, как «добрый и ласковый боженька» приклеил ей во сне «ноги — большие и новые»… Я пел о «Кокаинетке» — одинокой, заброшенной девочке с «мокрых бульваров Москвы», о женщине в «пыльном маленьком городе», где «балов не бывало», которая всю жизнь мечтала о Версале, о «мёртвом принце», «о балах, о пажах, вереницах карет». И вот однажды она получила дивное платье из Парижа, которое, увы, некуда было надеть и которое ей наконец надели, когда она умерла! И так далее…
У меня были «Жамэ», «Минуточка», «Бал господен», «Креольчик», «Лиловый негр», «Оловянное сердце»… Одну за другой постепенно создавал я свои песни. А публика, не подозревавшая, что обо всем этом можно петь, слушала их с вниманием, интересом и сочувствием. Очевидно, я попал в точку. Как и все новое в искусстве, мои выступления вызывали не только восторги, но и целую бурю негодования. В чем только не упрекали меня! Как только меня не поносили и не ругали! Страшно вспомнить. Уже позже, в Киеве, на концерте какой‑то педагог вскочил на барьер ложи и закричал:
— Молодёжь! Не слушайте его! Он зовёт вас к самоубийству!
Молодёжь с хохотом стащила его с барьера ложи.
А все потому, что в своей песенке «Кокаинетка» я осмелился сказать:
Конечно, это было жестоко и не весьма педагогично. Но, увы, это было единственное, что можно было ей посоветовать. Сергей Городецкий в Тифлисе как‑то написал рецензию на моё выступление. Там были слова:
«Я ещё не знаю, что лучше — некрасовское «позовём‑ка её да расспросим» или его «И ступайте туда, где никто вас не спросит, кто вы!».
Во время выступлений в Киеве я заметил мужчину и женщину, которые не пропускали ни одного моего концерта. Сидели они всегда в первом ряду. Она бешено аплодировала мне, а он, как безумный, наотмашь лупил её по щекам. И так каждый раз. Я уходил за кулисы в слезах отчаяния, догадываясь, что эта женщина — из тех самых, «распятых» кокаиновой смертью. Да, несладок был этот мой успех.
В одно лето мы с нашим театриком, который держала добрейшая Марья Николаевна Нинина-Петипа — бывшая актриса, происходившая из славной театральной династии Петипа, — отправились на гастроли в Тифлис, в сад Общественного собрания. В её труппе было много разных актёров — Поль, Женя Скован, молодой Покрасс (Аркадий, кажется) и другие.
Гастролёром был я.
Однажды в театр пришёл пианист Игумнов и сказал Марье Николаевне, что хочет послушать меня. Я перетрусил и отказался выступать. На другой день, к ужасу своему, я снова увидел его фигуру в театре. Я хотел было опять уклониться от выступления, но Марья Николаевна сказала:
— Этак вы сорвёте мне весь сезон.
Пришлось петь. После спектакля Игумнов пришёл ко мне за кулисы. Мы познакомились. Потом ужинали в саду. Я был очень недоволен его посещением и сказал ему:
— Зачем вы пришли? Ведь вы же только смутили меня своим визитом.
— Почему? — удивлённо спросил он.
— Потому что я не понимаю, как вы, музыкант высокого класса, воспитанный на Бахе, Генделе и Шумане, можете слушать такую дилетантщину! Это же просто издевательство надо мной!