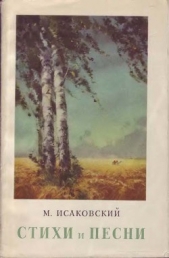Дорогой длинною...

Дорогой длинною... читать книгу онлайн
В настоящее издание включены воспоминания, стихи и песни, рассказы и письма Александра Николаевича Вертинского (1889-1957) — поэта, композитора, артиста, человека незаурядной судьбы.
Мемуары дают читателю вполне реальное представление о детстве, юности, первых шагах е искусстве А.Вертинского, о горести эмигрантских скитаний, о его тяге к отечеству, о возвращении на «милую навеки» родину после двадцатитрехлетнего странствия по свету.
В сборнике публикуются письма А. Вертинcкого, адресованные разным лицам, жене, дочерям. Вернувшись на родину в 1943 году, он впоследствии мучительно прозревал в созданной Сталиным удушливой атмосфере. Это была тихая невидимая миру трагедия о которой можно узнать из его писем. Только искренняя любовь публики была тем источником, который поддерживал в нем жизненные силы.
Такова эта одновременно и счастливая и трагическая судьба.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Из чего же вы, собственно, заключаете это? — спросил он просто, как будто даже не интересуясь моим ответом.
Я объяснил ему все, рассказав также и о том, как ехал с Пушкиным в трамвае.
— Обычные зрительные галлюцинации, — устало заметил он. Минуту он помолчал, потом взглянул на меня и строго сказал: — Вот что, молодой человек, или я вас посажу сейчас же в психиатрическую больницу, где вас через год-два вылечат, или вы немедленно бросите кокаин! Сейчас же!
Он засунул руку в карман моего пиджака и, найдя баночку, швырнул её в окно.
— До свидания! — сказал он, протягивая мне руку. — Больше ко мне не приходите!
Я вышел. Все было ясно.
Был сентябрь 1913 года. В театрах начинался зимний сезон. В Московском Художественном были объявлены конкурсные испытания — приём статистов, или сотрудников, как это называлось. Я пошёл на конкурс. Народу было видимо-невидимо. Из самых дальних медвежьих углов России понаехали в Москву алчущие и жаждущие юные лицедеи. Многие были настолько бедны, что не имели даже средств, чтобы снять комнату, и спали на вокзалах и на скамейках парков. Все волновались, заглядывали в какие‑то тетрадки и книжечки стихов, что‑то повторяли, что‑то заучивали наизусть, разговаривали сами с собой вслух и, никого не замечая, бродили по коридорам и фойе театра, бормоча и жестикулируя. Мужчины, подражая провинциальным актёрам, носили буйные шевелюры и бархатные блузы с небрежно повязанными бантами. Женщины — гладко зализанные, с локонами-сосисками, свисавшими с боков, одеты в чёрные пышные платья из тафты или бархата, затянутые в талии и широкие книзу. Шуршащие и мягкие, стилизованные под героинь тургеневских пьес, с белыми строгими камеями в виде брошек, они сжимали в мокрых руках маленькие бархатные книжечки стихов, изданные в виде католических молитвенников.
Почти никто не читал классиков на этом конкурсе. Читали новых поэтов — Блока, Брюсова, Ахматову… Экзаменаторы дивились.
Никто из экзаменаторов не знал ни Цветаевой, ни даже сильно нашумевшего, скандально объявившего себя гением Игоря Северянина с его «Громокипящим кубком» и «Ананасами в шампанском». А молодёжь читала именно этих новых.
Отбирали нас артисты Художественного театра, сидевшие в разных комнатах, и по очереди «допрашивали». Я попал к Мчеделову. Он очень подробно и внимательно гонял меня по установленному курсу и держал довольно долго. В конце концов я был допущен к конкурсу. Это была уже большая победа. Из пятисот-шестисот человек к конкурсу было допущено всего пять. Я помню из них Церетелли, Смышляева, Веру Орлову.
Экзамен начался в торжественной обстановке. За длинным столом, накрытым сукном, сидел весь цвет театра: Москвин, Качалов, Лужский, Артём, Книппер, Леонидов и, конечно, Станиславский с Немировичем-Данченко.
Первые три актёра прошли благополучно. Церетелли изысканно манерничал, Смышляев закатил истерику из Достоевского, Верочка Орлова плакала настоящими, «вот такими» крупными слезами, видными издалека. Я был последним.
Читал я много. Чем больше я читал, тем больше удивлялись экзаменаторы.
— Чьи это стихи? — спрашивали меня. Я называл никому не известные имена молодых поэтов моего круга. Артисты Художественного театра пожимали плечами и переглядывались.
— А Пушкина вы читаете?
— Нет.
— Почему? Не любите его, что ли?
— Люблю, конечно. Как можно не любить Пушкина!
— Так как же так, любите и не читаете?
Тут я осмелился выразиться весьма необдуманно, что, по-видимому, и погубило меня.
— Оскар Уайльд говорит, — заявил я, — что классики — это писатели, которых надо внимательно проштудировать и… немедленно забыть.
Это была неслыханная дерзость. Тем не менее меня ещё долго гоняли по программе и улыбались как будто весьма дружелюбно и сочувственно. В конце допроса Станиславский, переглянувшись с Немировичем, повертев в руках карандаш, неожиданно спросил меня:
— Вот вы плохо произносите букву «р», что вы думаете делать с этим дефектом?
— Я буду учиться и исправлю его! — отвечал я дрожащим голосом.
— Довольно. Спасибо.
На мне экзамен закончился. Товарищи поздравляли меня. Все были уверены, что я принят. На другой день я, придя в театр, бросился к доске, где были вывешены имена принятых сотрудников. Моего имени не было.
Началась война. Госпитали Москвы были забиты ранеными. Госпитали эти были не только казённые. Многие богатые люди широко откликались на патриотические призывы земства и открывали на свои средства больницы для раненых.
Однажды вечером я шёл по Арбату. Около особняка купеческой дочери Марии Саввишны Морозовой стояла толпа. Привезли с вокзала раненых. В этом особняке был госпиталь её имени. Раненых вынимали из кареты и на носилках вносили в дом. Я стал помогать. Когда последний раненый был внесён, я вместе с другими тоже вошёл в дом. В перевязочной доктора спешно делали перевязки, разматывая грязные бинты и промывая раны. Я стал помогать. За этой горячей работой незаметно прошла ночь, потом другая, потом третья. Постепенно я втягивался в эту новую для меня лихорадочную и интересную работу. Мне нравилось стоять до упаду в перевязочной, не спать ночи напролёт.
В этом была, конечно, какая‑то доза позёрства, необходимого мне в то время. Я уже всю свою энергию отдавал госпиталю. Я читал раненым, писал им письма домой, присутствовал на операциях, которые делал знаменитый московский хирург Холин, и уже был вовлечён с головой в это дело. Появились сестры — барышни из «общества»: Верочка Дюкомен, Надя Лопатина, Наташа Третьякова и другие. Все работали на совесть — горячо и самозабвенно, и о кокаине я как‑то стал забывать. Мне некогда было о нем думать. Дома я почти не бывал, ночевал в госпитале.
Потом Морозова решила организовать свой собственный санитарный поезд. Подчинялся он «Союзу городов» и имел номер 68‑й. Начальником его был назначен граф Никита Толстой. Двадцать пять серых вагонов третьего класса плюс вагон для перевязок, плюс вагоны для персонала, кухня, аптека, склады — таков был состав поезда. Все это было грязно и запущено до предела. Мы все горячо взялись за уборку. Мыли вагоны, красили их, раскладывали тюфяки и подушки по лавкам, устраивали перевязочную, возили из города медикаменты и инструменты. Через две недели поезд был готов. На каждом вагоне стояла надпись: 68‑й санитарный поезд Всероссийского союза городов имени Марии Саввишны Морозовой. Я был уже в его составе и записался почему‑то под именем «Брата Пьеро». И тут не обошлось без актёрства!
Поезд ходил от фронта до Москвы и обратно. Мы набирали раненых и сдавали их в Москве, а потом ехали порожняком за новыми. Работали самоотверженно. Не спали ночей. Обходили вагоны, прислушивались к каждому желанию, к каждому стону раненого. У каждого был свой вагон. Мой — один из самых чистых и образцовых. Мне была придана сестра — Наташа Третьякова, очень красивая и довольно капризная девушка, в которую я, для начала, немедленно влюбился. Очень скоро с чёрной работы меня перевели на перевязки. Я быстро набил руку, освоил перевязочную технику и поражал даже врачей ловкостью и чистотой работы. Назывался я по-прежнему Брат Пьеро, или попросту Пьероша, а фамилии моей почти никто и не знал. Выносливость у меня была огромная. Я мог ночами стоять в перевязочной. Этим я, конечно, бравировал. В свободные часы, когда не было раненых и поезд шёл пустым, мы собирались в вагоне-столовой, и я развлекал товарищей шуточными стихами, написанными на злобу дня, и даже иногда пел их на какой-нибудь знакомый всем мотив под гитару такого же брата милосердия, Златоустовского или Кости Денисова. Несколько первых рейсов с нами ездила в качестве старшей сестры графиня Толстая, Татьяна Константиновна, родственница графа Никиты. Это была очаровательнейшая, седая уже, добрая и благородная барыня. Она очень любила цыган и цыганские песни и пляски — крестила у них детей, женила их и вообще была «цыганской матерью». Её скромная квартирка в Настасьинском переулке всегда была полна цыган. Кроме того, она сама писала неплохие по тому времени романсы. А её знаменитую «Спи, моя печальная» на слова Бальмонта пела вся Москва. Меня она заметила сразу, и вскоре я сделался её любимцем.