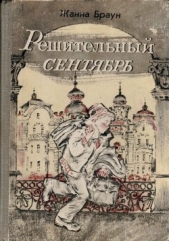До дневников (журнальный вариант вводной главы)

До дневников (журнальный вариант вводной главы) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я решила обратиться к жене П.Л. Капицы, чтобы она возглавила Фонд, и в начале сентября мы с Андреем были у них в их городском доме. Это была моя вторая (первая была на их даче, когда мы собирали подписи под Обращениями об амнистии и отмене смертной казни) и последняя встреча с ними. Анна Алексеевна категорически отказалась. Тогда я предложила как бы компромиссный вариант, чтобы Фонд возглавила одна из ее невесток, но и это предложение не было принято. Но мы довольно долго были у них. Нас пригласили к ужину.
Петр Леонидович с удовольствием показывал картины и рассказывал какие-то байки о разных ученых, из которых я знала только одно имя — М.А. Леонтовича. Конечно, я была в какой-то мере ошарашена домом-дворцом, начиная с парадной лестницы дворцового типа и кончая картинами. Я подобных домов в частном владении никогда не видела.
Больше никаких шагов к тому, чтобы Фонд возглавила какая-нибудь женщина из советской элиты, я не предпринимала. Я как-то сразу поняла, что из этого ничего не выйдет.
Я предложила Нине Харкевич и Анне-Марии Бёлль стать вместе со мной сопредседателями Фонда. Они сразу согласились. Нина договорилась с банком Ротшильда, куда были положены деньги, и банк выделил одного из своих сотрудников месье Гаре ведать деньгами Фонда.
Нина в Италии, Анне-Мария в Германии, Таня Матон во Франции и я дома через корреспондентов сделали заявление о Фонде, и он начал функционировать и благополучно выжил и работал до конца горбачевской эры и времени бархатных революций.
В «Воспоминаниях» Сахаров пишет: «По договоренности с банком деньги переводились по переданному туда списку непосредственно женам политзаключенных, имевших детей. К началу 1976 года такие переводы стали невозможными… но и Фонд был в значительной степени исчерпан». Это ошибка памяти Сахарова. С 1976 года Внешторгбанк не запретил такие переводы, но резко повысил налог с получателей переводов. Несмотря на это Фонд продолжал функционировать на прежней основе, хотя меня несколько раз сотрудники других фондов упрекали, что собираемый с наших получательниц налог подпитывает советскую власть. Но я не хотела, чтобы кто-то из директоров Фонда или я сама имели прямое отношение к деньгам.
Рема все свободное от работы время проводил в каких-то самиздатских делах, размножал фотоспособом «Архипелаг ГУЛАГ», «Прощай, Каталония», еще что-то, часто общался с Сергеем Ковалевым и Таней Великановой. Позже мы узнали (не помню от кого и не знаю никаких подробностей), что на его имя сняли квартиру, где делали «Хронику». Андрей был этим огорчен. Он считал, что нашу семью не следует связывать ни с чем, что делается тайно.
Алеша почти все лето отсутствовал, был в студенческом отряде, где-то на Северном Кавказе, потом в байдарочном походе. И вернувшись, объявил, что женится. Мы — мама, я и Андрей были в шоке. Только-только летом ему исполнилось 18 лет. Но с таким решением нельзя бороться. Его надо принимать. В ноябре он и Оля Левшина поженились.
А Андрей в сентябре попал в больницу. Когда мы пришли с вечерней прогулки, он пожаловался на боли в животе. Я посмотрела его и говорю: «У тебя аппендицит, такой явный, прямо, что называется, студенческий. И надо вызвать „скорую“ и в больницу». А он стал меня убеждать, что это у него хроническая дизентерия. Когда и кто ему внушил про хроническую дизентерию, не знаю. За три года, что он жил в нашем доме, никаких ее признаков не было. От «скорой» Андрей категорически отказался, и мы на такси поехали в академическую больницу. В приемном покое его продержали часа три. В чем-то сомневались, кому-то звонили. Кого-то вызывали. Наконец взяли в операционную. Я курила на лестничной площадке, когда из операционного блока вышла женщина (потом я узнала, что это была зав. хирургическим отделением) и стала мне говорить: «Какая вы умница. Ведь у него уже флегмонозный аппендицит, еще немного и было бы поздно». Оперировали Андрея в ночь с 13 на 14-е. Не надо думать, что у меня такая острая память. Просто на второй день прибежала с вытаращенными глазами моя Таня и рассказала, что была в Беляеве на выставке, которая вошла в историю изобразительного искусства под названием «Бульдозерной». И еще в каком-то разговоре с еще не встававшим с постели Андреем я вдруг выяснила, что он не читал «По ком звонит колокол». Теперь как-то смешно об этом вспоминать, но тогда это меня потрясло. И в тот же день Володя Тольц (мне кажется, тоже потрясенный «Как? Не читал? Не может быть!») принес книгу Андрею.
За лето и осень было опубликовано большое число небольших документов Андрея в защиту отдельных людей — в это время было много арестов среди немцев и ходатайств о прописке в Крыму лиц крымско-татарской национальности (термин не мой, а официальный). Такие мелкие документы обычно писала я, а Андрей только подписывал. Из своих документов этого времени он считал важным письмо Курту Вальдхайму о положении иракских курдов.
30 октября по предложению политзаключенных нескольких лагерей прошел первый день политзаключенных. Идея была высказана Кронидом Любарским и кем-то из «самолетчиков» (не помню, Мурженко или Федоровым). Проводили его у нас дома. Для этого пришлось маму переселить на кухню, а из ее комнаты всю мебель мужики (Рема и Алеша) вытащили на лестницу. И мы немного беспокоились, как бы ее там не растащили. Пришло очень много корреспондентов и много наших — жен и друзей заключенных. С этого года отмечать этот день стало традицией, и кроме одного (или двух?) раза это всегда проходило у нас в доме. Последний в доперестроечную эру день политзаключенного я проводила одна 30 октября 1982 года, специально в этот день приехав из Горького. Во всей Москве не нашлось тогда никого, кто бы был моим подельником в этом предприятии. Корреспондентов ко мне в квартиру не допустили (у дверей квартиры стояли три миллиционера), я «принимала» их на улице и передала им несколько документов. Какие — не помню, но, наверно, где-то они имеются (не только в КГБ).
В ноябре у нас был и провел несколько часов в беседе с Андреем американский сенатор Джеймс Бакли.
Но сразу после его ухода Андрей стал сожалеть, что какие-то значимые вещи не сказал, что-то важное выразил неточно. И я предложила ему написать Бакли открытое письмо, не торопясь обстоятельно закрепить все на бумаге. Письмо к Бакли, которое постепенно переросло в книгу «О стране и мире», Андрей начал писать через пару недель, но отвлекаясь на многие повседневные правозащитные и семейные заботы.
Вскоре в Москву прибыла делегация американских ученых, периодически обсуждавших проблемы разоружения с такой же комиссией советских (предполагается — независимых!) ученых. Несколько человек из этой комиссии вечером пришли к нам. Это были молодые и, как мне показалось, веселые люди. Мы ужинали в тесноте на нашей кухне, они (думаю, вполне искренне) хвалили мою стряпню и вели серьезный разговор с Андреем, в котором я не все понимала. Когда мы провожали их по набережной к гостинице «Россия», кто-то из них стал петь, и нас вполне могли принять за подгулявшую компанию.
И еще в это время мы несколько раз ездили в студию к Борису Биргеру, и он писал наш двойной портрет. Это было какое-то отвлечение, выход не просто в другой дом, но в другой мир. Андрею нравилось, что будет портрет, нравились разговоры с Борей, в которых было некое пересечение с его прошлым. В студенческие годы Андрей знал сестру Бориса. Нравились наши чаепития с моей ватрушкой после сеанса позирования.
Ноябрь и декабрь были очень тревожны из-за усилившегося внимания КГБ к Сергею Ковалеву. Примерно 25 декабря мы вынули из почтового ящика письмо, в котором была вырезка из газеты «Известия», сообщающая об обсуждении в Конгрессе США поправки Джексона, и короткий текст, напечатанный на машинке. В нем было сказано: «Если вы не прекратите своей деятельности, мы примем свои меры. Начнем мы с небезызвестных Вам Янкелевичей — старшего и младшего». Это говорилось о Ефреме и о полуторагодовалом Мотиньке. Получать подобные письма более чем просто неприятно, и мы не могли отнестись к нему несерьезно.