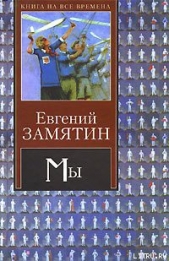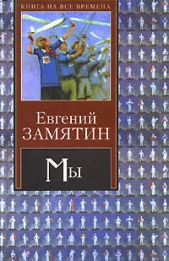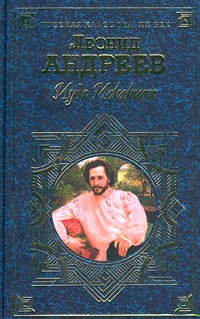Вячеслав Гречнев. О прозе и поэзии XIX-XX вв.

Вячеслав Гречнев. О прозе и поэзии XIX-XX вв. читать книгу онлайн
В книге речь идет об особом месте так называемого малого жанра (очерк, рассказ, повесть) в конце XIX - XX вв. В этой связи рассматриваются как произведения Л.Толстого и Чехова, во многом определившие направление и открытия литературы нового века ("Смерть Ивана Ильича", "Крейцерова соната", "Скучная история", "Ариадна"), так и творчества И.Бунина, Л.Андреева и М.Горького, их связи и переклички с представителями новых литературных течений (символисты, акмеисты), их полемика и противостояние.
Во втором разделе говорится о поэзии, о таких поэтах как Ф.Тютчев, который, можно сказать, заново был открыт на грани веков и очень многое предвосхитил в поэзии XX века, а также - Бунина, в стихах которого удивительным образом сочетались традиции и новаторство. Одно из первых мест, если не первое, и по праву, принадлежало в русском зарубежье Г.Иванову, поэту на редкость глубокому и оригинальному, далеко еще не прочитанному. Вполне определенно можно сказать сегодня и о том, что никто лучше А.Твардовского не написал об Отечественной войне, о ее фронтовых и тыловых буднях, о ее неисчислимых и невосполнимых потерях, утратах и трагедиях ("Василий Теркин", "Дoм у дороги").
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Гусев, пятилетие отслуживший солдат; и некто Павел Иванович, духовного звания, в числе других служивых и смертельно заболевших плывут на пароходе в Россию с Дальнего Востока. Гусев вспоминает свою службу в денщиках, дело, по его мнению не трудное: «Встаешь утром, сапоги почистишь, самовар поставишь, комнаты уберешь, а потом и делать нечего» (7, 330). Помнится ему и случай, когда он ни с того ни с сего бока помял четырем китайцам, зашедшим к ним во двор, и как его офицер, увидев это, «дал ему по уху». В бреду болезни часто видится ему его родная деревня, близкие родственники и такая приятная ему зима, сугробы (плывут они в Индийском океане, жара стоит, нечем дышать). В рассуждениях же Павла Ивановича преобладает критика и недовольство всем и вся, видно, что роль обличителя ему очень нравится. «Я никого и ничего не боюсь, — повторяет он. — Я воплощенный протест… Горжусь такой репутацией. Прослужил на Дальнем Востоке три года, оставил после себя память на сто лет: со всеми разругался» (7, 333).
Разговоры, которые ведут Гусев с Павлом Ивановичем, никак нельзя назвать беседой: они не слушают и не слышат друг друга, каждый из них, мы видели, живет в своем мире воспоминаний и чувств, в мире, как правило, очень мелких забот и житейских дрязг. Это особенно очевидно перед стихией безбрежного океана, в котором движется их пароход, и перед лицом смерти, о которой они догадываются, но в которую не хотят верить, хотя уже сочтены не только все дни, но и часы их жизни.
Дела земные и суетные, в которые так часто бывает погружен человек, отнимают у него много времени и сил, мешают ему видеть этот мир в его непостижимой сложности и красоте. Именно в этом смысле сопрягаются и противопоставляются в финале рассказа небо и земля: «Наверху глубокое небо, ясные звезды, покой и тишина… внизу же — темнота и беспорядок. Неизвестно для чего, шумят высокие волны. На какую волну ни посмотришь, всякая старается подняться выше всех, и давит и гонит другую» (7, 337).
Сначала умирает Павел Иванович, не закончив своей очередной обличительной речи («Как сравнишь себя с вами, жалко мне вас… бедняг»), а затем приходит черед Гусева (он почти равнодушно встретил известие о смерти своего собеседника: «Ну, что ж, — бормочет Гусев, зевая. Царство небесное»). Вслед за Павлом Ивановичем по морскому обычаю хоронят и Гусева. Его труп зашивают в парусину и бросают за борт. Он быстро идет ко дну, к нему подплывает акула и «нехотя подставляет под него пасть…
А наверху в это время, в той стороне, где заходит солнце, скучиваются облака; одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы… Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой середины неба; немного погодя рядом с этим ложится фиолетовый, рядом с ним золотой, потом розовый… Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке и назвать трудно» (7, 339).
Действительно. Чехов в пору зрелости своей стал смотреть на жизнь человеческую с очень высокой точки зрения. И она, эта почти космическая высота, как нельзя лучше, подчеркивает не только поистине жалкую мизерность столь многих устремлений человека, но и помогает осознать, как одинок и затерян он в этом безбрежном, прекрасном и страшном мире, в котором ему некуда деться от гибельных в своей разрушительности мыслей и чувств, связанных с предстоящей вечностью, к которой он, человек, не имеет никакого отношения.
Незадолго до смерти Чехов написал завещание, и в нем он, выражая свою последнюю волю, проявлял заботу не только о своих близких. Он просил передать деньги на строительство дороги мелиховским крестьянам, а также хотел, чтобы платили за обучение в гимназии дочери его старого таганрогского знакомого. И последнее, что Чехов написал здесь, было обращение к сестре Марии Павловне: «Помогай бедным. Береги мать. Живите мирно».
О Чехове как писателе, стоявшем на грани «старой» и «новой» литератур, будут говорить многие современные ему критики и художники слова. Одни из них ограничатся лишь констатацией этого факта и обратят внимание на роль и значение открытий Чехова для судеб русской литературы: «Чехов — главная пограничная станция. От него идут все пути — к новой литературе, к новой жизни, которая рождается на смену прошлому» [58]. Другие, как Толстой например, выскажут мысль о мировом значении чеховских открытий: «Чехов создал новые, совершенно новые, по-моему, для всего мира формы писания, подобных которым я не встречал нигде <…> И Чехова как художника нельзя уже сравнивать с прежними русскими писателями — с Тургеневым, с Достоевским или со мною. У Чехова своя особенная форма, как у импрессионистов» [59].
Развивая эту мысль Толстого, Б. М. Эйхенбаум приходит к выводу, который помогает понять и то, почему жанр рассказа оказался в состоянии стать достойным преемником больших эпических форм, и то, почему в связи с этим данный период литературы, когда почти одновременно заявил о себе большой отряд писателей-новеллистов, для которых так много значили опыт и открытия Чехова, никак не может быть назван периодом упадка и кризиса. «Дело не только в том, что Чехов ввел в русскую литературу короткий рассказ, — писал литературовед, — а в том, что эта краткость была принципиальной и противостояла традиционным жанрам романа и повести как новый и более совершенный метод изображения действительности. Именно поэтому все, написанное до Чехова, стало казаться несколько старомодным — не по темам или сюжетам, а по методу» [60]. Современники Чехова, за редким исключением, как уже отмечалось, оказались плохо подготовленными к восприятию открытого им нового и более совершенного метода изображения действительности. К числу немногих, составивших это исключение, относился Гаршин, который одним из первых высоко оценил новаторские искания Чехова
Отношение Гаршина к чеховским произведениям, а также представление о той атмосфере довольно распространенного непонимания Чехова, которая была характерна отнюдь не только для первых лет пребывания его в литературе, хорошо удалось передать И. Е. Репину в его воспоминаниях о Гаршине: «Мы частенько встречались с Всеволодом Михайловичем <…> Он читал нам вслух только что появившуюся тогда — я бы сказал — «сюиту» Чехова «Степь».
Чехов был еще совсем неизвестное, новое явление в литературе. Большинство слушателей — и я в том числе — нападали на Чехова и его новую тогда манеру писать бессюжетные и бессодержательные вещи. Тогда еще тургеневскими канонами жили наши литераторы. «Что это — ни цельности, ни идеи во всем этом», — говорили мы, критикуя Чехова. Гаршин со слезами в своем симпатичном голосе отстаивал красоты Чехова, говорил, что таких перлов языка, жизни, непосредственности еще не было в русской литературе. Надо было видеть, как он восхищался красотой и особенно поэзией этого восходящего тогда нового светила русской литературы. Как он смаковал и перечитывал все чеховские коротенькие рассказы!» [61].
Особенно много критических возражений вызывали такие подлинно новаторские, своеобразные формы выражения авторской позиции, как объективно-лирический и нейтральный, объективно-«холодный» тон повествования. Известно, что и Толстой, высоко ценивший творчество Чехова, неоднократно отмечал, что авторская позиция в его произведениях выражена недостаточно отчетливо. Но, конечно, в работах современных Чехову критиков немало было сделано и верных наблюдений. С этой точки зрения заслуживает внимания полемика, которую вел Д С. Мережковский с критиками, упрекавшими Чехова в недостаточно полном и художественно убедительном изображении предыстории героев, логики развития их характера, поступков и поведения. Несомненно полемичным было и размышление Мережковского по поводу чеховского объективного тона повествования, вызывавшего упреки в «равнодушии» и «аполитичности». «Эта художественная объективность, — подчеркивал Мережковский, — нисколько не исключает гуманного чувства, дышащего в каждой строке, того чувства, которое пробуждает мысль и волнует совесть читателя, быть может, не менее самой яркой, боевой, политической тенденции» [62]. Целый ряд верных замечаний был высказан Мережковским о своеобразия чеховского пейзажа, о композиции рассказов (Мережковский чередовал названия «рассказы» — «новеллы»), способах психологической характеристики героев и т. д.