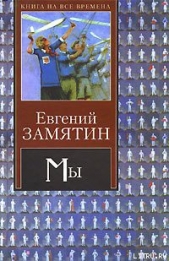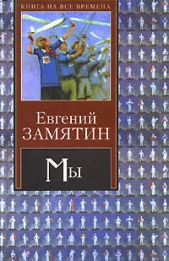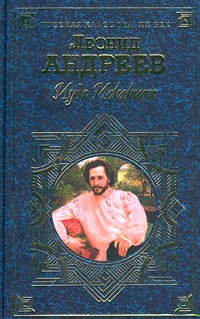Вячеслав Гречнев. О прозе и поэзии XIX-XX вв.

Вячеслав Гречнев. О прозе и поэзии XIX-XX вв. читать книгу онлайн
В книге речь идет об особом месте так называемого малого жанра (очерк, рассказ, повесть) в конце XIX - XX вв. В этой связи рассматриваются как произведения Л.Толстого и Чехова, во многом определившие направление и открытия литературы нового века ("Смерть Ивана Ильича", "Крейцерова соната", "Скучная история", "Ариадна"), так и творчества И.Бунина, Л.Андреева и М.Горького, их связи и переклички с представителями новых литературных течений (символисты, акмеисты), их полемика и противостояние.
Во втором разделе говорится о поэзии, о таких поэтах как Ф.Тютчев, который, можно сказать, заново был открыт на грани веков и очень многое предвосхитил в поэзии XX века, а также - Бунина, в стихах которого удивительным образом сочетались традиции и новаторство. Одно из первых мест, если не первое, и по праву, принадлежало в русском зарубежье Г.Иванову, поэту на редкость глубокому и оригинальному, далеко еще не прочитанному. Вполне определенно можно сказать сегодня и о том, что никто лучше А.Твардовского не написал об Отечественной войне, о ее фронтовых и тыловых буднях, о ее неисчислимых и невосполнимых потерях, утратах и трагедиях ("Василий Теркин", "Дoм у дороги").
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он снова и снова говорит о том, «какую страшную воспитательную роль играют в жизни человека обстановка и мелочи» (3, 121). Трудно предположить, к примеру, что в такой, только еще создающейся семье («Перед свадьбой»), когда-нибудь будет воспитан достойный человек. Здесь мамаша называет папашу «лысой образиной» и накануне свадьбы так наставляет дочь свою: «Что ты веселая?.. деньги нашла что ли? Что? Какая там любовь?.. За чином его погналась» (1,47). Малооправданы надежды на воспитание духовно содержательного человека и в семье учителя гимназии Кулыгина («Три сестры»): по наследству он способен передать разве что восторженные мысли и чувства, возникающие у него в минуты общения его с начальством. Не очень верится в бодрые призывы к новой жизни у таких персонажей, как Саша из «Невесты» и Трофимов из «Вишневого сада»: очень уж заметна не только какая-то бытовая, но и внутренняя их неопрятность, духовная ограниченность.
«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», — скажет доктор Астров. Но задолго до этого, будучи еще гимназистом, Чехов составит своеобразный кодекс поведения интеллигентного и порядочного человека, в письме к брату он заметит: «Зачем ты величаешь особу свою «ничтожным и незаметным братишкой». Ничтожество свое сознаешь?.. Ничтожество свое сознавай, знаешь где? Перед Богом, пожалуй, перед умом, красотой, природой, но не перед людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство.» (П, I ,29).
Далеко не простыми были отношения Чехова с эпохой и современниками. Безусловно, он сын своего времени, как несомненно и то, что он творчески учел достижения как русских писателей, так и зарубежных. Все это так. Но как-то уж очень быстро он всех и всё перерос. В 29 лет, т. е. совсем еще молодым человеком, он сделает странное, печальное признание: «Ни с того ни с сего, вот уже два года, я разлюбил видеть свои произведения в печати, оравнодушил к рецензиям, к разговорам о литературе… я не разочарован, не утомился, не хандрю, а просто стало вдруг всё как-то менее интересно» (П, 3,203,204).
Многие современники довольно высоко ценили чеховский талант, верили в него и любили. В свою очередь и он отвечал им взаимностью. И вместе с тем, трудно назвать писателя, журналиста, критика, общественного деятеля, режиссера, актера, с которым Чехов так или иначе не полемизировал бы. Спорил он, зачастую и по вопросам весьма существенным, с Гончаровым и Достоевским, с Короленко и Толстым, с Михайловским и Сувориным, с Мережковским и Дягилевым, с Вересаевым, Немировичем-Данченко и Станиславским, с Л. Андреевым, Буниным и М. Горьким.
Важное место в этом споре занимала проблема личности, обсуждение которой в 80-90-е годы отличалось особой остротой и весьма разнообразными подходами и решениями. Одни, в развитие идеи прошлого, продолжали говорить о самопожертвовании, о том, что личность должна быть поставлена на службу интересов народа, раствориться в обществе». Другие, напротив, стали утверждать самоценность личности, которая всегда — цель и никогда — средство, и в связи с этим подвергли сомнению известную формулу: «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», поставив вопрос: «разве в человеке прежде всего ценен гражданин, а не просто человек»?
Чехов не принял ни одну из господствовавших точек зрения. Он явно не разделяет содержание и пафос монологов Вершинина («Три сестры»): «И как бы мне хотелось доказать вам, что счастья нет, не должно быть и не будет для нас… Мы должны только работать и работать, а счастье это удел наших далеких потомков» (13, 170). Но Чехов не согласен был и с тем, чтобы за кем бы то ни было признак право на полное знание истины, претензию на особое место в жизни на какую-то исключительную роль в решении судеб как ближних своих, так и общечеловеческих. Писатель не скрывает своей неприязни к унтеру Пришибееву, но явно не симпатична ему и Лидия Волчанинова («Дом с мезонином»): их, таких непохожих, сближает безапелляционность и деспотизм. Эти качества не по душе автору и у фон Корена («Дуэль»), как не примет Чехов, кстати сказать, и деспотизм Толстого-моралиста.
У Чехова, как и во многом другом, нет однозначного ответа на вопрос о счастье, природе его и праве на него человека. В одних своих произведениях («Счастье») он утверждает, что «счастья много» и человек должен отыскать свое счастье, хотя это очень трудно, ибо «не видит его ни одна душа» (6, 214). В других же («Крыжовник»), бьет тревогу, что слишком много людей благополучно устроившихся и в этом видящих свое счастье, и предлагает «за дверью каждого довольного, счастливого человека» поставить кого-нибудь с молоточком, чтобы тот «постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти» (10, 62). Вот почему так часто интерес Чехова сосредоточен на истории «возрождения» героя отнюдь не «погибшего» (т. е. такого, которого «среда заела»), а, казалось бы, во всех отношениях благополучного, но который, тем не менее, однажды приходит к выводу, что дальше «так» жить невозможно.
Чехов являл собой тот редкий пример человека и писателя, у которого его личные представления о правде жизни ни в чем не расходились с той правдой, которую он утверждал в своем творчестве. В 1888 году в небольшой статье он откликнулся на смерть Н. М. Пржевальского, которого он, по его словам, «бесконечно» любил. В ней он, высказав открыто свои симпатии и антипатии, создал образ вполне положительного человека-подвижника. Подвиг жизни этого ученого путешественника побудил Чехова сделать вывод: «В наше больное время, когда европейскими обществами обуяли лень, скука жизни и неверие, когда всюду в странной взаимной комбинации царят нелюбовь к жизни и страх смерти, когда даже лучшие люди сидят сложа руки, оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием определенной цели в жизни, подвижники нужны, как солнце… Если положительные типы, создаваемые литературою, составляют ценный воспитательный материал, то те же самые типы, даваемые самою жизнью, стоят вне всякой цены» (16, 236-237).
А через два года после этой статьи Чехов совершил и свой подвиг жизни – паломничество на Сахалин.
Разъясняя цель своей поездки А. С. Суворину, который, как и многие никак не мог понять, зачем ему, в расцвете славы и признания, понадобилось отправиться в это нечеловечески трудное путешествие. Чехов написал: «Сахалин — это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный. Мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили варварски, и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей. Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы» (П 4,32).
Как и всегда, Чехов не снимает вины и ответственности со всех своих сограждан и, разумеется, с самого себя. Размышления над тем, как и при каких обстоятельствах такое могло получиться, он продолжает и по возвращении с этого острова страданий. Делясь впечатлениями от поездки, он напишет: «Хорош Божий свет. Одно только не хорошо: мы. Как мало в нас справедливости и смирения, как дурно понимаем мы патриотизм!.. Мы, говорят в газетах, любим нашу великую родину, но в чем выражается эта любовь? Вместо знаний — нахальство и самомнение паче меры, вместо труда — лень и свинство, справедливости нет, понятие о чести не идет дальше «чести мундира» (П, 4.140).
На материале, имеющем прямое отношение к путешествию, Чехов написал совсем немного, хотя трудно переоценить такие, скажем его рассказы, как «В ссылке», «Убийство», «Гусев», а также — книгу очерков «Остров Сахалин». Но все это немногое, по словам Чехова, было «просахалинино». Иначе говоря, претерпел кардинальное изменение взгляд писателя на мир, человека и литературу. «До поездки, — скажет он в одном из писем, — «Крейцерова соната» была для меня событием, а теперь она мне смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то с ума сошел — черт меня знает (П. 4. 147). В какой-то мере понять это новое помогает рассказ «Гусев» и особенно его финал, в котором так очевидно проявилось это удивительное умение Чехова вполне житейские, бытовые подробности и детали человеческого существования переводить в степень более высокую, в разряд проблем бытийных.