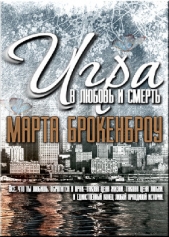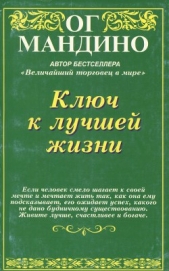Жить для возвращения

Жить для возвращения читать книгу онлайн
Посмертная книга Зиновия Каневского (1932–1996) — это его воспоминания о жизни, о времени, в котором он жил, о людях, с которыми встречался, о трагедии, произошедшей с ним в Арктике, и о том, как ему, инвалиду без обеих рук, удалось найти свой новый путь в жизни.
Первая часть написана в форме повести и представляет собой законченное произведение. Вторая часть составлена из дневниковых записей и литературных заготовок, которые он не успел завершить.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мой собеседник улыбнулся, сказал, что последние шесть лет газет им не давали и радио тоже не позволяли слушать, что он мне, конечно, верит, однако все же советует быть поосторожнее. Каюсь, в эти минуты я смотрел на него с чувством идейно-политического превосходства, даже не давая себе труда вслушаться в чудовищно звучащие слова о запрете на газеты и радио! Узнав, что мне двадцать два года, он, наверное, решил быть снисходительнее ко мне, но о себе ничего рассказывать не стал. Правда, утром следующего дня первым подошел ко мне и предложил погулять. Признаться, я воспринял это как чудачество — на дворе трещал ноябрьский колымский мороз, и все-таки отказать ему не решился. Мы гуляли по нескольку раз в день, уходили в барак погреться, вновь выбирались на улицу, и тут уж говорил в основном он.
Борис Васильевич был капитаном 2-го ранга, его товарищ Борис Иванович — 3-го. Оба воевали с японцами на Тихоокеанском флоте, на ТОФе, оба к концу 40-х годов командовали большими кораблями. В те годы по ТОФу пошла волна повальных арестов комсостава, говорили, что «органы» раскрыли вредительскую деятельность командующего флотом адмирала Юмашева. Офицеров хватали прямо на кораблях, свозили на берег и отдавали под трибунал по обвинению в государственной измене. Моих двух Борисов арестовали почти одновременно.
Бориса Васильевича доставили в политотдел флота, сорвали с него погоны и ленточки многочисленных наград, срезали все пуговицы с кителя, и это, по словам кавторанга, было для него наиболее унизительно. Скоротечный и беспощадный трибунал приговорил его к десяти годам лагерей как японского шпиона. Всех невинно осужденных моряков разбросали по колымским золотым приискам и лесоповалам, лишь немногим удалось устроиться «по специальности» на речные буксирчики и баржи. Но работа там была летней, от силы трехмесячной, а страшную бесконечную зиму приходилось, как и другим, проводить в гибельных условиях.
Весной 1953 года до них стали доходить слухи о смерти Сталина, но они считали главным виновником своих бед не вождя, а его сатрапа Берию. Арест «кровавого маршала», о чем они также узнали с большим запозданием, всколыхнул надежды, однако перемены наступили только спустя почти полтора года. За пять дней до нашего знакомства Бориса Васильевича выпустили из зоны под Анадырем, снабдив справкой о досрочном освобождении, а отнюдь не о реабилитации. Он дал телеграмму во Владивосток жене и вылетел в Хабаровск моим же рейсом. А в Сеймчане неожиданно встретил старого товарища, Бориса Ивановича, отбывавшего срок здесь. Тот летел домой, в Горький, но он уже знал, что там его никто не ждет: жена, не выдержав беды, покончила с собой, троих детей разобрали по детдомам…
Борис Васильевич мягко, но настойчиво учил меня. Убеждал, что не со всяким можно откровенно беседовать на житейские темы, рассказывал о стукачах и сексотах, и я старался постичь эти новые для уха и разума понятия, осознать, среди какого народа живу — и мало что понимал. Только ощущал непоправимость того, что происходит со страной, где лично мне жилось и дышалось вольно, как в знаменитой песне Дунаевского на стихи Лебедева-Кумача.
Борис Васильевич не скрывал радостного возбуждения, причем не только потому, что он на свободе и скоро окажется дома, нет, он признавался, что знакомство со студентиком ему весьма по душе: раз уж такие, бесповоротно, казалось бы, оболваненные режимом, начинают смело, хоть и наивно, рассуждать о политике, дело небезнадежно. Значит, грядут перемены к лучшему и не все еще потеряно даже для них, «стариков» лет тридцати пяти. Жаль только, Борису Ивановичу уже не поможешь, он, похоже, повредился рассудком. Рвется в Москву, хочет добиваться справедливости у высшего руководства, у товарища Маленкова или у товарища Хрущева, первого секретаря ЦК КПСС.
Через несколько лет я, как и многие, прочел повесть, на страницах которой вдруг увидел «моего» кавторанга Буйновского (в реальной жизни Бурковского) — настолько похожи все гулаговские кавторанги на героев «Одного дня Ивана Денисовича»! И нет ни малейшей разницы, где именно мучились и умирали люди со званиями и без оных, на Колыме или в республике Коми, в Норильске, Караганде, Джезказгане, на Соловках или в Джиддинских лагерях Бурятии — главное, что от Солженицына мир узнал о существовании таких людей. Крути не крути, их всех вернул из небытия Н. С. Хрущев, как бы ни относиться к этому лидеру.
А сам XX съезд, если забежать чуть вперед, прошел мимо меня и моих товарищей по новоземельской зимовке. Все, что составило его суть, секретный доклад Хрущева в Кремле в феврале 1956 года, в течение целых шести месяцев оставалось для нас неведомым! Ничего удивительного, радиосвязь в Ледовитом океане ненадежна, сквозь шумы или глухое молчание эфира к нам прорывались только осколки информации. Мы знали, что идет съезд, что на нем выступают с неожиданно откровенными речами руководители партии, произносится диковинное словосочетание «культ личности», однако о закрытом ночном докладе Хрущева (засекреченном аж на три с лишним десятилетия!) мы ничегошеньки не узнали до возвращения в Москву.
На Большой земле тот доклад читали полностью на многих предприятиях, чуть ли не в домоуправлениях. Люди передавали друг другу чудовищные подробности о подвешенных на крюки за ребра маршалах и старых большевиках, ползавших у сталинских сапог — а у нас не было даже газет с отчетами о ходе съезда, они поступили только в августе, когда из Архангельска пришел открывший навигацию пароход с грузами.
Правда, до того в нашей бухте побывал военный корабль, и от его офицеров нам перепала кое-какая информация. Мы пили чай в кают-компании полярной станции, болтали о том, о сем, и вдруг я поймал обрывок фразы, брошенной моложавым капитаном 1-го ранга:
— Да хоть сегодня можно было бы вышвырнуть его из Мавзолея, но еще не время, народ не вполне подготовлен к этому.
Я обмер: кого вышвырнуть? Там же лежат двое — значит, товарища Сталина? Да будь здесь сейчас «мой» кавторанг с Колымы, он бы пришел в ужас — разве можно говорить такое о товарище Сталине?!
Оказывается, можно. И даже нужно, пояснил наш гость, который в свою очередь впал в крайнее недоумение от нашего дикого невежества: ведь в докладе товарища Хрущева столько сказано о сталинских злодеяниях! «Вы что, газет тут не читаете, политинформаций с вами не ведут?» — по-моему, именно так он и спросил.
Ну что ты будешь делать, давал же себе зарок не трогать больную тему, не приставать к Наташе с расспросами о предстоящей операции — нет, скорпионий характер все же сработал! Ее истязаю, себя жалею смертельно, пытаю каждую заглянувшую в палату медсестру, и выглядит это фальшиво до отвращения:
— Не скажете ли, милочка, раз уж вы здесь оказались, что там Павел Иосифович надумал со мной сделать? Не на следующей неделе, не во вторник ли? А под каким наркозом? Ах, ничего не знаете, давно профессора не встречали, так-так, я, представьте, тоже. Что ж, надо будет порасспросить Веронику… — и тут уже можно было поклясться, что до завтрашнего утра никакая Вероника сюда и носа не сунет, равно как Аллочка, Любочка, Танечка и прочие мои мучительницы-спасительницы!
К вечеру, как обычно, «заглянул на огонек» Борис Ефимович, хирург-дежурант. Он брал на себя ночные смены, обслуживал тех, кого доставляла «скорая», но, естественно, присматривал и за постоянной клиентурой. Доктор был всего на год-другой старше меня, и мы с ним подружились. Он дежурил через день и всегда коротал возле моей койки выдавшееся свободное время. К нему, единственному, я старался не приставать, и он это ценил, позволяя себе изредка некоторые откровения на мой счет. Например: крепись, старичок, худшее у тебя позади, наши корифеи скоро поставят тебя на ноги, а что до рук… Ну, не на руках же тебе ходить, в самом деле! Да они, в принципе, и сохранятся, действовать ими ты, так сказать, сможешь, и вообще говорить об этом преждевременно, лежи себе, набирайся сил, а мы для тебя все сотворим в лучшем виде.