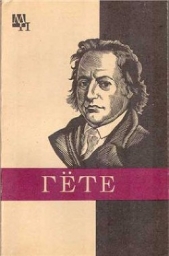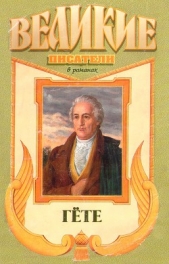Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни

Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так начался путь, с которого я уже не сошел на протяжении всей моей жизни, а именно: все, что радовало, мучило или хотя бы занимало меня, я тотчас же спешил превратить в образ, в стихотворение; тем самым я сводил счеты с самим собою, исправлял и проверял свои понятия о внешнем мире и находил внутреннее успокоение. Поэтический дар был мне нужнее, чем кому–либо, ибо моя натура вечно бросала меня из одной крайности в другую. А потому все доселе мною опубликованное не более как разрозненные отрывки единой большой исповеди, восполнить которую я и пытаюсь в этой книге» (3, 239).
Не все в этой самохарактеристике можно с основанием отнести к лейпцигскому периоду и произведениям той поры, но кое–что достаточно важно. Поиски «значительности материала», без которой для него не
90
существует серьезного произведения, он относит к этому раннему периоду, но должен он был искать ее в самом себе. «Правдивой основой» его стихов — при этом «чувство» и «мысль» выступают на равных правах — могло явиться только все то, что составляло содержание его опыта в Лейпциге. Таким образом, «отрывки единой большой исповеди» следует понимать не как интимные признания, но гораздо шире — как документы многообразного жизненного опыта активно творящего человека, который этим путем стремится «свести счеты» с «миром» и самим собой. Для человека ищущего и не знающего покоя, «натура» которого «вечно бросала его из одной крайности в другую», творчество было средством справиться с трудностями жизни.
«Гётевское» в ранних стихах
Поклонники гётевской лирики охотно ищут — нет ли уже в стихах лейпцигского периода того, что указывало бы на специфически «гётевское» более поздних лет? И находят это в стихотворении «Ночь». Первая редакция этого стихотворения — из письма к Беришу от мая 1768 года 1.
Покидаю домик скромный,
Где моей любимой кров.
Тихим шагом в лес огромный
Я вхожу под сень дубов.
Прорвалась луна сквозь чащи,
Прошумел зефир ночной,
И, склоняясь, льют все слаще
Ей березы ладан свой.
Я блаженно пью прохладу
Летней сумрачной ночи!
Что душе дает отраду —
Тихо чувствуй и молчи.
Страсть сама почти невнятна.
Но и тысячу ночей
1 В окончательной редакции стихотворение называется «Прекрасная ночь». Приводим перевод окончательной редакции.
91
Дам таких я безвозвратно
За одну с красой моей.
(Перевод А. Кочеткова [I, 60])
Впервые здесь уловлено «настроение», хотя эта ситуация встречается в лирике того времени. Передача очарования ночного пейзажа при свете луны (с третьей по тринадцатую строку) говорит о чем–то новом, но еще робко: поэт еще использует такие обычные аксессуары, как «луна», «зефир», «страсть»; пейзажей, освещенных лунным светом, тоже было достаточно в поэзии XVIII века. Прилагательные не только выполняют роль «украшений», но создают «настроение», «душа» здесь не только поименована, но уже и сами чувства обретают словесное выражение, не лишенное музыкальности благодаря звучанию гласных. Несколько строк удивленно–радостных восклицаний, за которыми следует, однако, остроумная концовка. Когда появляется «настроение», такие традиционные слова, как «луна», «зефир», теряют свою рассудочную сухость, и именно это давало возможность Гёте и в дальнейшем употреблять подобные слова. В стихотворении «Ночь» присутствует то колебание между удалением от возлюбленной и стремлением к ней, которое владело автором страстных писем к Беришу. Это также и стихотворение об одиночестве, когда герой упивается ощущением ночного пейзажа и в то же время охотно пожертвовал бы им ради достижения близости с любимой. Поэзия лунной ночи — сколь часто это всего лишь бегство, попытка восполнить отсутствующее наслаждение.
Другое стихотворение, предсказывающее будущие стихи, обращено «К Луне»; оно помещено в сборнике «Новые песни» и, по всей вероятности, написано во франкфуртский период после возвращения из Лейпцига. В первой строфе оно воссоздает впечатляющий образ ночной природы, чтобы во второй и третьей снова впасть в тон шутливой игры: Луна тоже не достигла бы ничего, если бы она видела спящую девушку лишь сквозь решетку окна:
К ЛУНЕ
Света первого сестра,
Образ нежности в печали,
Вкруг тебя туманы встали,
Как фата из серебра.
92
Поступь легкую твою
Слышит все, что днем таится,
Чуть вспорхнет ночная птица —
Грустный призрак, я встаю.
Мир объемлешь взором ты,
Горней шествуя тропою…
(Перевод В. Левика — 1, 61—62)
Новое появляется в лирике Гёте с описанием природы. Без влияния, которое оказал шотландец Джеймс Макферсон своей лирической поэзией, приписав ее старому кельтскому барду Оссиану, это едва ли было бы возможно. Песни Оссиана появились в 1765 году, с переводами Дениса (1768) Гёте вскоре, конечно, познакомился. В них — пространные, исполненные чувства описания сумеречных картин природы. В стихах Гёте элементы природы — это не просто декорации, в которых разыгрываются галантные сцены, — они получают пусть еще скромное, но самостоятельное значение. Следует обратить особое внимание на образы, связанные с туманом: они оказываются близки Гёте вплоть до его последних стихотворений.
Едва покинул нас — и мрачно выползают
Из всех ущелий затхлых вдруг
(Куда они бежали, как от солнца убегают
Туманы темные вокруг)
Тоска и горе…
(Перевод А. Гугнина)
Здесь, в «Оде к господину Цахариэ», впервые лучи солнца рассеивают туман. Этот образ, рождаемый непосредственным созерцанием, приобретает позднее все большую значительность — в стихотворении «Посвящение» (1784) туман сворачивается («Мгла в ее руках свернулась…») — вплоть до последнего дорнбургского стихотворения 1828 года: «В час, как с дола, с сада, ранью / Пелены туманов свиты» (перевод В. Вересаева).
Далекие от игры в духе рококо и от анакреонтической поэзии наслаждения три «Оды к моему другу Беришу» (1767) занимают особое место в юношеской поэзии Гёте. Они посвящены Эрнсту Вольфгангу Беришу, уже неоднократно упоминавшемуся нами. На одиннадцать лет старше Гёте, он был для последнего знатоком и экспертом по всем вопросам, касающимся литературы, и одновременно советчиком и доверенным лицом в вопросах поведения в свете и в любви. Бериш
93
предпочитал свободный и откровенный тон, скептически относился к жизни и, по всей вероятности, порой был склонен к цинизму. В 1760 году по рекомендации Геллерта он стал воспитателем юного графа фон Линденау, жил в Ауэрбаховском подворье, и Гёте посылал туда из «Большого огненного шара», где он жил, первые письма в октябре 1766 и октябре 1767 года. Осенью этого года Бериш вынужден был оставить место, по мнению брата, из–за пощечины, которую он дал своему воспитаннику в мундире, в то время как Гёте в «Поэзии и правде» считал ответственными за это шутки и дурачества всей клики, и, «как на беду, Бериш, а через него и мы питали склонность к нескольким девицам, которые были лучше, чем их слава, что не могло способствовать и нашей доброй славе» (3, 258). Обстоятельства, приведшие к потере места, и разлука серьезно взволновали Гёте. Три оды посвятил он своему другу, который отправился 13 октября 1767 года ко двору в Дессау, где смог стать воспитателем четырехлетнего графа Вальдерзее. Связь с Беришем не прерывалась и позднее, и еще в разговоре с Эккерманом 24 января 1830 года Гёте вспоминал о «старых дурачествах, на которые мы так постыдно тратили свое время».
«Оды к моему другу» написаны в ином, новом тоне. Ничего от игры и шалости, шутки и остроумия; никакого приспособления к традиционным, устоявшимся формам, вместо них «свободный стих», первый в лирике Гёте, хотя еще заключенный в строфы из четырех строк. Отчетливая суровая критика лейпцигского общества — в противопоставлении «прекрасного дерева» «сосущей жадности почвы» и «воздуха гибельной гнили». Скупыми чертами во второй оде нарисован образ враждебно–неприютной природы, передающий несколько заостренно лишь действительный вид болотистой, туманной низины вдоль берегов рек Плайсе и Эльстер плотным и сжатым языком, ограничивающимся подчас лишь называнием: