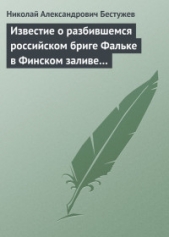Миг бытия

Миг бытия читать книгу онлайн
Воспоминания и эссе Беллы Ахмадулиной, собранные в одной книге, открывают ещё одну грань дарования известного российского поэта. С «напряжённым женским вниманием к деталям… которое и есть любовь» (И. Бродский) выписаны литературные портреты Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Владимира Набокова, Венедикта Ерофеева, Владимира Высоцкого, Майи Плисецкой и многих-многих других — тех, кто составил содержание её жизни…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Всё племя леших, водяных, домовых и прочих их сородичей Твардовский по-крестьянски, не без тайного уважения, величал: «ОНИ». Я сказала: «Ваши „ОНИ“ — существа, в общем, игривые и безобидные, и креста боятся. А я, вкратце, говорю „ОНИ“ про других, действительно страшных». — «Это про кого же?» — помрачнел и напрягся Твардовский. — «Да про всех вредителей живой жизни, вам лине знать? Это „ОНИ“ глумятся над вами и вашим журналом всем людям от них продыху нет, и от них не открестишься». Твардовский очень осерчал и прикрикнул на меня. «Вы не смеете об этом судить! Вы — главного не видите. А в главном — мы всегда были правы!» Это схематическое отвратительное главное давно мне наскучило, я разозлилась: «А вы себя в „ОНИ“ зачислили? Всё я вижу! Для „НИХ“ главным всегда было уничтожать, душегубствовать, раскулачивать!» Твардовский поднялся, стукнул палкой: «Если бы вы были в моём доме, я попросил бы вас выйти вон!» Размолвка происходила у Антокольских, и хрупкая доблестная Зоя Константиновна бросилась на мою защиту: «Александр Трифонович, пока ещё вы в моём доме и сами можете выйти, если хотите». Это было так неожиданно и слишком, что все невольно смягчились. Антокольский засмеялся, Твардовский сел, опершись подбородком на набалдашник подобревшей палки. Я подытожила: «Александр Трифонович, разговор с вами вот так выглядит, — я построила из рук треугольник, широко разведя локти и сомкнув пальцы, — начинаешь на равных и заходишь в тупик. А следовало бы вот так», — я свела локти и обратила отверстые ладони к предполагаемому мирозданию. «Это что же за фигура такая?» — заинтересовался он. «Это наглядное пособие я сейчас специально для вас придумала». — «Ну, это ещё куда ни шло, а я было испугался, подумал: сюрреализм».
Некоторые невинные «сюрреализмы» с нами порой случались. Вьюжным мартовским вечером сидели мы у Верейских. Твардовский пришёл с опозданием и, по обыкновению последнего времени, выглядел угрюмым, раздражительным, утомлённым. Рюмка ненадолго его оживляла. Грустно было видеть, как малою помощью вина пытался он облегчить необоримую душевную тяжесть. Расслабившись в тепле при близкой заоконной вьюге, потягивая вино, все несколько рассеянно слушали разговорившегося Твардовского, то и дело возвращавшегося к снедающей его теме «Нового мира». Взоры были обращены к собаке Дымке. Разлёгшись у камина, чуя ласковое внимание, она переворачивалась с боку на бок, укладывалась на спину и, закинув голову, оглядывала зрительскую публику. Пламя отражалось в её длинной серебряной шерсти. Её отвлекающее соперничество стало раздражать Твардовского, признававшегося в сокровенном, насущном. Он заметил, что собаке так же естественно находиться в сторожевой будке, как прочей скотине в хлеву. Вдруг у калитки позвонили. Оказалось, что за мной заехала искавшая меня компания. В снежных вихрях я различила моего дорогого, задушевного друга художника Юрия Васильева со спутниками. Он объяснил, что это — замечательное художественное семейство Дени (Денисовых), но главная удача и радость заключалась в том, что вместе с ними прибыла обезьяна Яша — для моего потрясения и восхищения. Мы направились к дому, где я жила, Твардовский заявил, что крепко привадился к главенствующему обществу животных, и теперь — куда обезьяна, туда и он.
Наскоро собрали на стол. Яша, в красном кафтанчике, с неудовольствием проверил угощение. Художник Дени благодарил Твардовского: «Я знаю, что это не вы, но всё равно спасибо, низкий поклон вам от всей земли русской!» Когда его уверили, что подделки нет, он впал в неистовое вдохновение декламации и поминутно простирал руки к окну, к буре и мгле. Я бы не удивилась, если бы нас проведал седок, правящий тройкой. Жена художника оказалась прекрасной певуньей и несколько раз спела «Летят утки…», чем очень растрогала и утешила Твардовского. Часто встречаясь с ним, я редко видела его лицо ясным, открытым, словно он привык оборонять его урождённое беззащитное добродушие от любопытного или дурного глаза. Твардовский затянул: «Славное море, священный Байкал…» Кажется, этой замечательной, любимой им, песней он проговаривался о чём-то подлинно главном, при словах «волю почуя…» усиливая голос и важное, грозное лицо, высоко вздымая указательный палец.
Напитки быстро иссякали, я вспомнила о початой бутылке джина, Твардовский гнушался чужестранными зельями, но сейчас с предвкушением, большим отвращения, смотрел на последнюю полную рюмку. В это время обезьяна Яша, учёный человеческим порокам, схватил рюмку и дымившуюся «Ароматную» сигарету Твардовского и вознёсся на шкаф, где и уселся, лакомясь добычей и развязно помахивая ножкой.
Твардовский всерьёз обиделся и стал одеваться. Собрались в долгую дорогу и другие гости. Со мной остались Яша и молоденькая дочка Денисовых, красивая молчаливая девочка, столь печальная, что грусть её казалась не настроением, а недугом. Она сразу же ушла в душ и долго не возвращалась. Яша, привязанный поводком к ножке шкафа, смотрел на меня трагическим и неприязненным взглядом. Я отвязала его, и он больно ущипнул меня за щёку. Я хотела уйти, но он догнал меня и обнял за шею маленькими холодными ладошками: никого другого у него не было в чужой, холодной, метельной ночи. Мне сделалось нестерпимо жалко его крошечного озябшего тельца, да и всех нас: Юру Васильева, недавно упавшего с инфарктом на пороге Союза художников после очередных наставлений, эту девочку, осенённую неведомым несчастьем, Твардовского с его «Новым миром», обречённо бредущего сквозь пургу. Все мы показались мне одинокими неприкаянными путниками, и дрожащая фигурка Яши как бы олицетворяла общее разрозненное сиротство.
В 1965 году затевалась помпезная и представительная поездка русских поэтов во Францию. Я о ней и не помышляла: за мной всегда числились грехи, но Твардовский решительно настаивал на моём участии. Он взял меня с собой в ЦК. Я дичилась, и он крепко вёл меня за руку по дремучим коридорам. Встречные приветствовали его по-свойски, без лишнего подобострастия. В одном кабинете он ненадолго оставил меня. Беседа была краткой: «Есть решение: вы поедете. САМ за вас партийным билетом поручился, так что — смотрите».
«Ну вот, — засмеялся Твардовский, — отправимся мы с вами, как Левша, смотреть заграничные виды».
Парижа, пленительно обитавшего в воображении, я как бы не застала на месте. Нет, Париж, разумеется, был во всём своём избыточном блеске, загодя были возожжены Рождественские ёлки, витрины сияли, беспечные дамы и господа посиживали в открытых кафе. Я двигалась мимо всего этого, словно таща на спине поклажу отдельного неказистого опыта, отличающего меня от прочей публики. Ночью я смотрела в окно на огни бульвара Распай, на автомобили с громко переговаривающимися и смеющимися пассажирами, на высоких красавиц, беззаботно влачивших полы манто по мокрому асфальту, и улыбалась: «Превосходно, жаль только, что — неправда». Опровергая подозрение в нереальности, утром в номер подавали кофе с круассанами, Эйфелева башня и Триумфальная арка были литературны, но вполне достоверны. Меж тем советская делегация привлекала к себе внимание, в основном посвящённое Твардовскому. Каждое утро, в десять часов, в баре отеля его поджидали журналисты. Он отвечал им спокойно, величественно, иногда — раздражённо и надменно: дескать, куда вам, французам, разобраться в наших особых и суверенных делах. На пресс-конференциях наиболее «каверзные» вопросы — главным образом, об арестованных Синявском и Даниэле — храбро принимал на себя Сурков. Его ораторский апломб, ссылавшийся на новые изыскания следствия и точное соблюдение отечественных законов, туманил и утомлял здравомыслие прытких корреспондентов, и они отступались. Торжественное выступление русских поэтов в огромном зале и отдельный вечер Вознесенского и мой прошли с успехом.
Усилиями Эльзы Триоле была издана по-французски обширная антология русской поэзии, её покупали, с присутствующими авторами искали знакомства. Официальным ходом громоздких, пышно обставленных событий, да, по-моему, и всем положением советской литературы во мнении французского общества, единовластно ведала Эльза Триоле, Арагон солидно и молчаливо сопутствовал. Твардовский тайком бросал на них иронические проницательные взгляды. Эльза Юрьевна не скрывала своей неприязни ко мне: на сцене приостановила моё, ободренное аплодисментами, чтение, потом, у неё дома, когда Кирсанов, переживавший её ко мне немилость, попросил меня прочитать посвящение Пастернаку, с негодованием отозвалась и о стихах, и о предмете восхищения. Всё это не мешало мне без всякой враждебности принимать её остроту, язвительность, злоязычие за некоторое совершенство, точно уравновешивающее обилие обратных качеств, существующих в мире. Она удивилась, когда я похвалила её перевод «Путешествия на край ночи» Луи Селина, тогда мало известный.