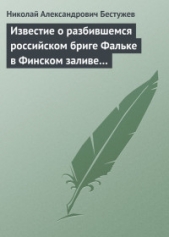Миг бытия

Миг бытия читать книгу онлайн
Воспоминания и эссе Беллы Ахмадулиной, собранные в одной книге, открывают ещё одну грань дарования известного российского поэта. С «напряжённым женским вниманием к деталям… которое и есть любовь» (И. Бродский) выписаны литературные портреты Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Владимира Набокова, Венедикта Ерофеева, Владимира Высоцкого, Майи Плисецкой и многих-многих других — тех, кто составил содержание её жизни…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Долгое время я соседствовала с Александром Трифоновичем Твардовским в дачном подмосковном посёлке. Его придирчивость к новому литературному поколению поначалу распространялась и на меня, но вскоре сменилась прямой милостью и снисходительностью. Это соседство казалось моему отцу несоразмерным и непозволительным: Василий Тёркин был главным сподвижником и любимцем его солдатской жизни. После войны, раненый и контуженный, он часто бредил и, не просыпаясь, громко читал отрывки из поэмы, просвещая мои детские ночи. Впоследствии мы в два голоса читали классическое стихотворение «Из фронтовой потёртой книжки», до сих пор мной любимое.
Мои вид и повадка его смущали. Однажды, уже расположившись ко мне, он робко спросил: «Уж если непременно надо носить брюки, — нельзя ли — чтобы чёрные?»
Моё пылкое отношение к Пастернаку, изъявленное и в стихах, Твардовский находил чрезмерным, незрелым и витиеватым. Стихи, с прозой внутри, дороги мне и теперь: они вживе сохранили для меня случайную встречу с Борисом Леонидовичем глубокой переделкинской осенью 1959 года. В посвящение ему я уже была исключена из Литературного института, мелкие невзгоды и угрозы льнули ко мне, но что значил этот воспитующий вздор вблизи его лица, голоса, ласкового приглашения зайти, которому я, от обожания, не откликнулась? Гонения и издевательства, павшие на Пастернака, Твардовский близко, но неопределённо принимал к сердцу. Не знаю, мог ли он тогда примерять к себе крайнюю степень возвышенного, оскорблённого, недоумевающего одиночества, разрушающего организм, причиняющего болезнь и смерть.
По мере жизни и бесед его рассуждения об Ахматовой и Цветаевой становились всё мягче и проницательнее. Анна Андреевна особенно понравилась ему в Италии, он покорно принял на себя власть её стати и голоса, отметив, как, отвергнув поднесённый бокал, она величественно и твёрдо сказала: «Благодарю вас, но дайте-ка мне рюмку водки».
Нас сблизила страсть к Бунину, открытому ему в молодости смоленским учителем. Меня он недоверчиво и ревниво спросил: «Это вы-то знаете Бунина?» Я и тогда говорила, что сочинения Бунина возвращают мне отъятую урождённость земли и речи, осязаемую и обоняемую как явь. Об унижении запрета ответить Бунину он умалчивал, но видно было, что оно не заживало.
Твардовского забавляло и чем-то радовало, что, несмотря на его повторяющиеся приглашения, я не печаталась в «Новом мире»: чем приветливее он был, тем менее приходило мне в голову ему докучать. Стихов ему я тоже не читала. Однажды он настоял, и я прочла длинное стихотворение, посвящённое Цветаевой. Он удивился: «И всё это вы помните наизусть?»
Чаще всего мы встречались в милом, радушном доме Верейских: с Орестом Георгиевичем, Ориком, Твардовский был очень дружен ещё с военных времён. Являлись гости, завсегдатаями были Наталия Иосифовна Ильина и Александр Александрович Реформатский, жизнь щедро обманывала нас шутками и радостями застолья. Иногда и я рассказывала смешные истории, угождая Твардовскому простонародными словечками и оборотами, изображая разных персонажей, подчас зловещих. Про последних он как-то со вздохом обмолвился: «Эх, делали бы они столько зла, сколько надобно им для прожитку, так нет — всегда с запасом, с излишком».
Твардовский неизменно называл меня: Изабелла Ахатовна, выговаривая моё паспортное имя, как некий заморский чин. Однажды, опустившись передо мной на колено, он важно-шутливо провозгласил: «Первый поэт республики у ваших ног». Я отозвалась: «А вы всё это называете республикой?»
Думаю, что первым поэтом условной республики он себя ответственно и тяжело ощущал. Так и в учебниках было объявлено, так он и смотрелся: непререкаемо-крупный, недоступный для бойкой докуки. Но бремя это, чтимое окружающими, утяжелялось и оспоривалось препонами, придирками, стопорами, искушениями уловок, уступок, косвенных поисков выхода. Для преодоления всего этого было бы сподручней уродиться чем-то более мелким, прытким и уклончивым. Русский язык был его исконным родовым владением, оберегаемым от потрав и набегов. И перу подчас приходилось опасаться сторонней опеки, но, в добром расположении духа, говорил он замечательно. Его полноводная речь наступательно двигалась, медля в ложбинах раздумья, вздымаясь на гористые подъёмы деепричастных оборотов, упадая с них точно в цель. Некоторые слова были для меня прародительно новы — я запоминала и спрашивала Даля.
Казалось бы, это была избранная достопочтенная среда, оснащённая дачными угодьями и достатком. Но время продиралось сквозь изгороди и садовые заросли, вмешивалось в обеденные ритуалы террас разговорами об арестах и обысках. Будоражили мысль и совесть прибывающие свежие таланты, особенно — благородная проголодь гонимых питерских корифеев, по счастью, еще с юности моей, меня привечавших.
Но, конечно, главное было — Солженицын. Его разразившееся явление потрясло и переменило жизнь, во всяком случае мою.
Неповоротливая, привычно удушающая эпоха перестала казаться непоправимо бесконечной. Раньше никто, даже самым смелым помыслом, не надеялся её пережить. Вдохновению слабых надежд сопутствовали сильные дурные предчувствия.
Уезжая в редакцию и возвращаясь, Твардовский был нелюдим и мрачен. Окрестная природа предлагала свои кроткие утешения. (Одно моё описание её благолепия кончалось так: «Никто не знал, как мука велика за дверью моего уединенья».)
В зимнем лесу я часто встречала приметные следы Твардовского. Он шёл медленно, грузно, там, где он останавливался, его палка оставляла на снегу глубокую тёмную вмятину, как бы помечавшую место его особенно печального раздумья. Его подавленность я относила не только к «Новому миру», но и ко всему ходу жизни, к молодости, к роковому раскулачиванию его семьи, об этом — упаси Бог! — мы никогда не говорили. Вернувшись с похорон матери, он долго молчал, потом удручённо выговорил: «Только копань остался от всего, что было».
(Во внимательных скобках замечу, что воспоминания Ивана Трифоновича Твардовского, появившиеся в печати много позже, поразили меня силой и простотой художественного слога. Я возразила Наталье Ильиной, что я не углядела в них укоризны, бросающей тень на не сумевшего помочь брата. Только горе, безысходное общее горе вставало из скорбного бесхитростного повествования. Моё сострадание к Твардовскому, постоянно нёсшему испепеляющую, не прощённую себе вину, лишь усилилось и многое прояснило в его тяжёлых молчаниях и умолчаниях.)
Как-то мы сидели в поздних сумерках, при сильном запахе влажных предосенних флоксов. Бледно-голубые глаза Твардовского серебряно светились. Он таинственно и тихо заговорил: «А вот что случилось у нас на Смоленщине с одним кузнецом. Только пробило полночь, как слышит он: кто-то стучит кнутовищем в кузню и покрикивает, да так протяжно, властно: „Кузнец, а кузнец, отвори ворота“. Делать нечего, кузнец отворил. Видит тройку коней, у седока лицо тёмное, сокрытое. Тот ему, словно в насмешку: „Что, кузнец, можешь подковать моих лошадей?“ Спорить не стал, начал с левой пристяжной. Заглянул ей сбоку в морду, а это и не морда вовсе, а лицо Маланьи, что о прошлый год в пруду утопилась. Видит кузнец: дело-то нечисто, да отступать боязно. А правая пристяжная — точь-в-точь сосед Степан, его на сенокосе молоньёй убило. Коренник не хотел себя показывать, воротил рожу, но скалился по-знакомому — был у нас пришлый лихой мужик, озоровал на дорогах. Седок поблагодарил: „Ты — добрый кузнец, откинь-ка фартук, я тебе награды насыплю“. Насыпал в большой кожаный фартук видимо-невидимо золота — и укатил. Кузнец очухался, заглянул в фартук, а там не золото, а — неловко сказать — говно. Вот: подсобил вражьей силе».
В доверительном, волнующем рассказе я не усомнилась. Сторонне желалось для Твардовского другой жизни, другого детства, с ребятишками, скачущими в ночное, с шёпотами у костра на Бежином или другом лугу, да, видать, не обойтись нам без вмешательства «вражьей силы».
История мне полюбилась. Однажды, при многих людях, я попросила рассказчика повторить её. Он сурово, с гневом и обидой, меня одёрнул, словно я дерзнула предать грубой огласке доверенную мне тайну. Потом я прочла у Бунина очень похожую запись, но одно другому не мешает: в разных губерниях водятся родственные небылицы, легко принимаемые за собственный опыт.