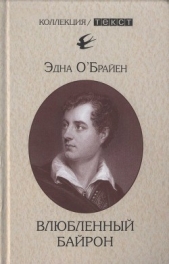Звезды падучей пламень

Звезды падучей пламень читать книгу онлайн
Это книга о яркой и трагической жизни Байрона – великого английского поэта-романтика. В ней раскрывается значение его свободолюбивой поэзии, отразившей главные события европейской истории первой половины XIX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Обратим внимание на картину, украшающую печоринский кабинет; она описана в романе довольно подробно. Картина изображает мужскую фигуру: «Голова была больше натуральной величины, волосы гладко упадали по обеим сторонам лба, который кругло и сильно выдавался и, казалось, имел в устройстве своем что-то необыкновенное. Глаза, устремленные вперед, блистали тем страшным блеском, которым иногда блещут живые глаза сквозь прорези черной маски; испытующий и укоризненный луч их, казалось, следовал за вами во все углы комнаты, и улыбка, растягивая узкие и сжатые губы, была более презрительная, чем насмешливая».
Кто послужил неизвестному живописцу моделью, Печорин не знал, однако для себя решил, что будет называть картину портретом Лары.
Прихоть? Нисколько. Облик героя восточных повестей схвачен в этом портрете безошибочно, и удивляться нечему, поскольку истинный автор картины, разумеется, Лермонтов с его особенным даром мгновенно распознавать все истинно байроновское. Откроем «Лару», написанного в мае 1814 года, вчитаемся в строфы, где набросаны черты заглавного героя. Это аристократ, оскорбленный в своем чувстве достоинства. Движимый личной обидой, он решается возглавить крестьянское восстание, хотя и не способен ни проникнуться целями своих ратоборцев, ни разделить их понимание справедливости. Его положение в качестве главы мятежников фальшиво, он действует как законченный индивидуалист, когда коллизия, по сути, куда значительнее чьих-то ущемленных амбиций. Нельзя шутить с давно накапливавшимся народным гневом, используя возмущение обездоленных лишь как средство свести счеты со старыми врагами, заставившими Лару пережить унижение. И Лара сам сознает, что весь избранный им образ действий, мягко говоря, двусмыслен, что он, собственно, не имеет нравственного оправдания – во всяком случае, безусловного.
Это причина его постоянного страдания, но если бы только это! Ведь Лару гнетет и печалит буквально все на свете. Прошлое ему видится чудовищным и непереносимым, настоящее зыбко и тревожно, а будущее – в этом он убежден непоколебимо – не сулит и проблеска надежды. «Презренье ко всему владело им» – знакомый, чисто байроновский мотив, однако в восточных повестях он усилится до предела, став даже не определяющим, а, скорее, подавляющим: другие свойства героя уже как бы и не ощущаются. Единственная настоящая страсть, которая владеет подобным персонажем, должна проступить даже в его внешности. И гамма его чувств однородна:
Вот и судите, прав ли был Печорин, считая портретом Лары изображение, висевшее у него на стене.
Можно допустить, что это не Лара, а Конрад или, например, Селим, но байроническая натура в лермонтовском описании ощущается с полной отчетливостью. Тут важен каждый штрих: и эта неистовость, и эта мрачная исступленность, которая точно упивается собственным безудержным напряжением, незаметно приобретая оттенок самовлюбленного позерства. Оно в той или иной степени присуще каждому из основных героев Байрона в его восточных повестях. Все они склонны поминутно демонстрировать, что обычные людские помыслы и побуждения им безразличны, и сердце их давно разуверилось в любых обольщеньях, и принятые нормы способны лишь жестоко их оскорблять своей мнимой разумностью, вызывающей у подобного персонажа «горечь, с шуткой пополам», «яд, смешавшийся со стоном» и уж непременно ненависть к «золотой середине».
Они как будто существуют в совершенно иной жизненной среде, и о них всех можно сказать то, что сказано Байроном о Ларе:
Но пребывать до бесконечности в этом магическом кругу нельзя, рано или поздно должно произойти столкновение с реальностью, никакой магии не признающей, да и не особенно считающейся с чьей-то гордыней, с чьей-то печалью. Это столкновение становится главной пружиной сюжета в восточных поэмах. Герой, «смолоду изведав все земное», бежит от мира и хочет замкнуться в своем особом бытии. А мир возвращает беглеца к царству обыденных отношений, от которых не избавишься красивыми и решительными жестами разрыва, потому что этот вызов, пока он остается бунтом одиночки, не способен сделаться освобождением хотя бы для самого бунтаря, не говоря уж о людях, так или иначе вовлекающихся в его судьбу. «Мятежно воспаряя надо всем», герой в итоге убеждается, что он лишь доверился иллюзии вольного полета, тогда как на деле власть реальной жизни по-прежнему неодолима.
И сам этот конфликт, и его обязательно трагедийная развязка заключают в себе типичные черты романтического понимания действительности. Конечно, и до романтиков в литературе бывали герои, которым буря оказывалась желаннее любого рая, если он устроен по образцу плоской повседневности. Но все-таки лишь романтический поэт мог настолько возвысить идею бунта и разрыва, придав ей значение фундаментального жизненного принципа, исповедуемого личностью.
До романтиков были Гамлет и Вертер, глубочайшим образом пережившие свой разлад со временем, свою неутолимую тоску по идеалу, который никогда не осуществится. Был вечный искатель гармонии миропорядка Фауст. Был созданный гением Шиллера Карл Моор – прямой предшественник Лары, тоже аристократ, который предпочел участь разбойника необходимости смиряться с ложью заведенных порядков. То новое, что внес в эту коллизию романтизм, определялось не столько необычностью положения, когда человек в одиночку противостоит всему, что почитается естественным и безусловным. Новым было другое: обязательность такого противостояния.
У романтиков коллизия, не ими открытая, однако по-особому ими осознанная, – вот где сказалась атмосфера эпохи, наполненной муками истории! – предстала без каких бы то ни было смягчений и полутонов. Она давалась в своей крайности, в своей «экстреме». Пушкин, который в годы южной ссылки сам ощутил притягательность такого взгляда на мир, отразившегося и в его «Кавказском пленнике», и в «Бахчисарайском фонтане», выразил сущность подобных отношений между личностью и миром с исчерпывающей точностью – ее не достиг даже Байрон, пусть восточные его повести считаются апофеозом романтического бунтарства, принявшего свою предельную форму. Вспомним пушкинского «Демона»:
В одном из писем Пушкина, относящихся к тому же времени, главенствующей чертой поколения, которое определило облик XIX века, названа «преждевременная старость души». Мы уже знаем, что это такое, мы ведь познакомились с Гарольдом и в журнале Печорина читали такие же признания. У героев поэм восточного цикла черта эта выступает не менее наглядно, только она соединяется тут с озлобленностью, с насмешливым неверием ни во что и презреньем к самой природе. С чертами характерно демоническими, подразумевая смысл, который вложил в свое стихотворение Пушкин. Для него не составляло сомнения, что подобного рода демоничность – не какое-то душевное отклонение. Она почти непременная черта того сознания, которое выразил романтизм, пробужденный к жизни резкими разломами и противоречиями времени. Лара, Конрад, Гяур – все они носители этого демонического мироощущения. И «преждевременная старость души» тоже отличает их всех, сколь бы различно она ни проявилась.
Вот Гяур, человек, в полной мере узнавший «скорбь без надежды, без конца», хотя годами он еще юн. О его прошлом можно догадаться по глухим намекам; видимо, оно было страшным. Мы встретимся с ним в Элладе, куда его привели долгие и, в общем-то, бесцельные скитания. «Востока благодатный рай» – а мы помним, что Греция в ту пору оставалась для европейцев Востоком, – пробуждает у Гяура лишь горестные воспоминания о былой славе да желчную иронию всякий раз, как он убеждается в ее сегодняшней униженности. Оглядываясь на прожитые годы, он видит только непрерывающийся след жестокостей, рухнувших иллюзий, неотомщенных обид; он бесконечно равнодушен к «волненьям суетного света», однако владеющую им мертвую тоску не развеют и драмы, развертывающиеся У него на глазах. Ни истинные духовные взлеты, ни подлинные потрясения ему не доступны, он словно оледенел, и осталось одно лишь неясное том7ение по утраченным минутам, когда он был способен что-то пережить всерьез: