В наших переулках
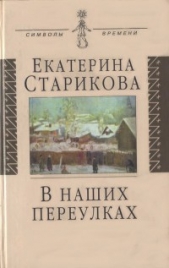
В наших переулках читать книгу онлайн
Книга профессионального литератора Е. В. Стариковой представляет собой воспоминания московской интеллигентки о своих родителях и многочисленных родственниках, о детстве и юности, проведенных и в Москве, и в деревне — на родине ее отца, — и за городом, на природе; причем все подробности взаимоотношений людей и быта даны на историческом фоне, эпоха ощущается в каждом повороте событий, в каждом слове повествования.Наибольшую ценность этим воспоминаниям придает несомненный писательский дар Стариковой. Читатель получает прекрасный образец настоящей русской прозы; книга — от первой до последней страницы — читается буквально на одном дыхании.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Через несколько часов пароход все-таки появляется и с плеском причаливает к пристани. Папа грузит наши тюки, корзины и чемодан. Фрося переводит нас по зыбким сходням. Низкие, плоские, песчаные берега Клязьмы плывут мимо.
Пароход — маленький, беленький, почти пустой — приводит нас с Алешей в восторг. Папа, Фрося и Лёля располагаются в каюте с двумя диванами в свежих полотняных чехлах. Мы же с Алешей, несмотря на ненастное небо и резкий речной ветер, проводим целый день на палубе. В первый раз мы плывем по реке и чувствуем себя моряками и героями. Мое тяжелое черное пальто, перешитое из мужского, кажется мне очень похожим на капитанскую шинель. Я вообще люблю воображать себя мальчиком и втайне надеюсь, что недоразумение в конце концов рассеется и я еще окажусь мальчиком. На этой пустынной, продутой ненастным ветром палубе такое мечтается особенно легко и убедительно.
Водную романтику несколько нарушает единственный верхний пассажир — добродушный бородатый дед с мешком кустарных деревянных изделий, которые он нам показывает и предлагает купить. Его товар так заманчив! Мы не привыкли ничего просить у родителей, но тут не выдерживаем, спускаемся в каюту и вымаливаем у папы по игрушке. За двадцать копеек я получаю из рук деда маленькую кругленькую коробочку с выжженными на ее крышке елочками. Коробочка долго будет мне напоминать в нашей городской сухопутной жизни ветреный день на Клязьме и озабоченное лицо отца.
К вечеру мы выгружаемся на глухой лесной пристани. Под ногами пружинит многослойная слежавшаяся щепа, кругом — редкие сосны и обширные порубки, штабеля бревен и древесины, красноватые куски сосновой коры — следы обширных лесоразработок. Мы снова ждем, сидя на своих узлах и тюках, ждем узкоколейного рабочего поезда. Он проходит двенадцать километров с пристани до Южи раз в сутки, как и «Робеспьер», но часы прибытия пароходика и отправления поезда ни в малой степени не совпадают — у каждого из них своя жизнь.
Сначала мы ждем поезда под открытым небом, белесо светлым до самой полуночи в эту июньскую пору. Потом тучи комаров, их тонкое, тоскливое жужжание постепенно загоняют людей — мужиков, баб, девок — в обширный сарай, заменяющий здесь станцию. В нем нет ни лавок, ни скамей. Пассажиры располагаются прямо на полу, — впрочем, в сарае нет и пола, все та же сухая, упругая щепа заменяет его. Первой засыпает маленькая Лёля, жестоко искусанная комарами. А вскоре и весь набитый людьми сарай покорно спит. Я дольше всех брожу вокруг сарая, вырезая папиным ножичком из коры кораблики. Кругом пусто, призрачно-светло и звенящая тишина. Наконец и я не выдерживаю, забираюсь в сарай, ставший уже душным, опускаюсь, как и все, на землю и, положив голову на жесткое, грубошерстное отцовское плечо, задремываю. Но не успеваю как следует заснуть, как раздается пронзительно тонкий свисток паровозика. Все вскакивают, в полной темноте хватают свои узлы, спотыкаясь и толкаясь, выбираются из сарая и бегут к вагончикам, беря их штурмом. Мы, непривычные, с тяжелым багажом, конечно, оказываемся последними. Но это не так и важно: поезд еще долго стоит, заражая нас и других пассажиров тревогой (пойдет — не пойдет?), сиденья у нас свои — все те же тюки и корзина, ехать же всего ничего — как ни тащится паровозик, но больше часа и он не может потратить на это расстояние. Мы выгружаемся в Юже, когда уже светло. Под ногами все так же упруго, а кругом все те же редкие сосны. Но, о радость, здесь, возле базара нас уже ждет Макар Антонович с лошадью. Серая лошадь — и своя, и колхозная одновременно: она его, Макара, собственная, ставшая только год назад колхозной. Получив у председателя разрешение на лошадь, он, конечно, выбрал свою, дорогую, ненаглядную, родную. Он и здесь в Юже, перед обратной дорогой любовно кормит ее, оглаживает, похлопывает по спине, не нарадуется на нее. Мы грузимся на телегу — корзина и чемодан приторачиваются к задней ее части, образуя как бы спинку, развернутый тюк стелется на сено как постель и туда укладываются досыпать «дети», Макар и папа садятся в передней части телеги по обе ее стороны, мы с Фросей — за их спинами. Я в первый раз еду как большая: свесив ноги и держась рукой за край телеги.
После вчерашнего ненастья утро яркое, сияющее первозданной свежестью. Дорога идет почти сплошь лесом, и каждый июньский листок, каждая хвоинка сверкают на солнце, промытые дождями. Папа с увлечением разговаривает с Макаром Антоновичем, папино лицо разгладилось, скулы размягчились, и у меня от сердца отлегло. Мы с Фросей соскакиваем с тряской телеги и бодро шагаем рядом по влажной тропе среди цветущего шиповника. Все внутри у меня дрожит от счастья: испытания дороги и папины тревоги позади, впереди — Волкове, знакомые лица, кругом — сверкающий лес, красоту которого я теперь ощущаю как красоту. Я большая, мне позволяют и сидеть на телеге, свесив ноги, и шагать рядом с лошадью. Я ни на минуту не чувствую усталости от тридцатикилометрового путешествия.
Мы въезжаем в Волково к полудню. Передние, уличные ворота Макарова двора широко распахнуты: девятнадцатилетняя Саня и семнадцатилетний Павлушка, дочь и сын Одуваловых, вывозят со двора на огород навоз. Грязные, босые, разгоряченные, они кидают на землю вилы, наскоро обтирают подолами руки и бросаются к нам. А из дома выбегает бабушка Анна Федоровна и уже плачет, и уже крестит нас. «Ну, полно, полно, Анюта», — обнимая, уговаривает ее папа. А у самого в голосе тоже слезы.
Начинается наше волковское лето. Лето, навсегда благословившее меня любовью к деревне, не просто к родной бабушке, ее ласке, уюту ее избы и амбара, простору ее огорода и укромности бани под черемухой — так было в Ландехе, — а сознательной любовью к деревне, к осмысленности ее еще не разрушенного до конца жизненного обряда.
2
Анна Федоровна и Макар Антонович сразу же по приезде нашем приказывают нам называть их бабушкой и дедушкой. Мы слушаемся, но меня смущает память о моей «настоящей» бабушке Марье Федоровне.
Анна Федоровна не похожа на покойную старшую сестру. У моей бабушки глаза были карие, как у папы и у меня, — все мы похожи друг на друга. А у Анны Федоровны — блекло-голубые. Анна Федоровна выше бабушки ростом, тонка и худа. Но моя бабушка была уверенной в себе, спокойной, чувствовалось, что сама себе хозяйка. Анна Федоровна тиха, кротка и покорна: боится Макара. Да и кто его не боится?
Макар Антонович невысок ростом, широк в плечах, у него темные волосы, стриженные по-старинному, как у Пугачева в нашем толстом Пушкине. Борода у него широкая и черная, после бани и перед отправлением в церковь он расчесывает ее частым гребнем, а глаза у него тоже темные, большие, почти цыганские. Он жаден к работе, все умеет делать, что нужно в деревне, все у него получается лучше, чем у других. Он резок на слово, обычно молчалив, но сейчас ведет долгие взволнованные разговоры с папой; я их мало понимаю и почти не помню. Но я остро чувствую, что в деревне Макара не любят, но уважают. Одна Саня ему перечит.
Исподволь изучая Макара Антоновича, я восстанавливаю в голове один зимний московский разговор. Папина двоюродная сестра Саня Обронова, живущая в Москве в прислугах, рассказывала маме о том, как трудно сейчас приходится Макару, получившему «твердое задание», прежде чем уступил и пошел в колхоз. «А скажи мне, Ольга Михайловна, что же такое значит кулак?» — спрашивала та, другая Саня, маму. «А это такой богатый крестьянин, — отвечала ей мама, — который нанимает работников, когда сам не справляется с хозяйством». — «Ну и почему же Макара называют кулаком? Чтоб Макар нанял кого? Да он скорее всех своих уморит, чем заплатит чужому! Ведь он Павлушку своего, шестилетнего еще, будил в четыре утра и сажал верхом на лошадь, погонять ее, когда он сам пашет. А чтоб тот не упал с лошади, привязывал к ней. Посмотри на его старшую, на Клавдию, — ведь замучил бабу работой. Нанять! Да он скорее сдохнет!»
Нет, не любят Макара Антоновича в деревне, завидуют ему и сейчас, униженному, сломленному. Анна же Федоровна боится деревенской зависти — это я скоро обнаруживаю. Стоило мне похвастаться перед бабами на улице, что мы привезли с собой целых двадцать кило сахара, как бабушка тут же схватила меня за вихор уже отросшей челки и больно-больно дернула, наклоняя за волосы мою голову вниз. Этот жест я поняла без слов и запомнила крепко, хотя и не видела ничего плохого в том, что мы так удачно купили в торгсине сахар и привезли его в Волково.
























