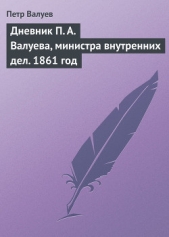Дневник. 1918-1924

Дневник. 1918-1924 читать книгу онлайн
Дневники Александра Николаевича Бенуа (1870–1960), охватывающие 1918–1924 годы, никогда прежде не печатались. Знаменитый и модный живописец, авторитетный критик и историк искусств, уважаемый общественный деятель — он в эти трудные годы был художником и постановщиком в Мариинском, Александринском и Большом драматических театрах, и иллюстратором книг, и заведующим Картинной галереей Эрмитажа. Свои подробные ежедневные записи Александр Бенуа называл «протоколом текущего безумия в атмосфере чада, лжи и чепухи».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вечером у меня был Петров-Водкин. Он снова в чем-то винит Чехонина (тот теперь подбивает его написать коллегии заявление, что он, Петров-Водкин, согласен с выбором
Академии), но мне эта история достаточно опротивела, чтобы о ней здесь подробно говорить.
В Глухове — резня интеллигентов. Мотя слышала, что Варфоломеевская ночь готовится и здесь. А что значит сегодня взрыв в 10,5 часов? Симптоматично, что эсеры свой выход из Советов хотят выразить захватом Пажеского корпуса. Чайковский так и заявил, что они ни за что не оставят столь выгодные позиции — доминирующий корпус и над Госбанком, и над Садовой, и над Невским. Чур всем вам! Пропадите без следа, без остатка!
Пятый день пьем кофе с молоком. Это изумительно и невероятно. Но счастье это нам привалило совсем как в детской назидательной сказке…
Просматривал случайные газеты. В «Новой речи» заметка Д.Мережковского «Упырь». Он возмущается удушением печати Лениным, который ее опасается больше, чем бомбы террористов, чем яда и кинжала. Перед свободным словом Ленин беззащитен со своими тысячами штыков; Николай II начал избиением интеллигенции, Ленин — кончит. Причем оба самодержца призывали к воле народа — круг замкнулся. Когда убивают колдуна, то из его могилы выходит упырь, чтобы сосать кровь живых. Из убитого самодержца Романова вышел упырь — ленинское самодержавие. Упырям нужны темная ночь и беспамятство жертвы. Учредительное собрание — солнце русской земли. Пусть попробует разогнать — сломает себе голову. Трепетал Романов, трепещет Ленин. Карающий кинжал уже занесен над головой тирана. Последнее слово уже сказано, и не социалистами, и не буржуазией, а всенародным свободным собранием. Сказано прямо в лицо, а он молчит и молча душит и убивает свободу слова, выдвигая равенство без свободы!
Чувствую себя как бы отброшенным от переднего края уличной полемики. На то есть причины, которые указал Мережковский, но и кроме них, увы, Бог лишил меня «дара слова». Учитывая этот недостаток, перед такими внушительными трибунами-ораторами, как Моисей, я не вижу в этом ничего постыдного. Но неудобства возникают отсюда большие. «Дар слова» есть способность, невзирая на обстановку, не смущаясь ни количеством толпы, ни характером собравшихся, развивать перед ними свои мысли; делиться своими познаниями как ни в чем не бывало, и даже со значительным подъемом очертить круг проблем и беседовать с массой как с близкими людьми, мне не дано.
Сейчас мы вступили в период, когда сила созидания остается за ораторами. Отныне преимущество у тех, кто обладает зычным голосом, и наоборот, обречены фактически на безмолвие и окажутся в проигрыше при защите своей позиции люди, не обладающие даром оратора. У меня же есть что защищать, у меня есть, за что стоять, «дел» — хоть отбавляй, и потому я так горюю над своей немощью в ораторском искусстве. Не могу сам отстоять то, что мне дорого, не могу войти в контакт с публикой. Вот почему у меня остается лишь одна возможность — обратиться через печатное слово, потому и называю свои статьи «речами письменными». Я и прошу воспринимать меня как «пишущего импровизатора», подобно тем, кто вещает с кафедр. Я за своим столом буду представлять воображаемую стотысячную аудиторию и постараюсь быть искренним и откровенным до конца.
Есть один вопрос современной жизни, развиваемый «Речью» о реванше, которого я не буду касаться, ибо даже сейчас опасно его затрагивать, но этого требует человеческая совесть. Я христианин по убеждению и по жизни и потому осуждаю войну и ратую за скорейшее прекращение этой братоубийственной бойни.
Стип взял на постоянную выставку в ОПХ «Морской пейзаж» А.Ахенбаха и нацелился на Ленбаха. Их мы вдвоем донесли до Общества поощрения художеств, где я порылся в книгах Икскульши.
Оттуда к Евгении Ивановне Зыбиной, которая с величайшей тщательностью уже перепечатала первую партию дневников. Что за ценный человек! По обыкновению и поболтали с ней о всякой всячине. Она ждет немцев, и, я думаю, несмотря на все бравады нашего воинства, их ждут все, не исключая Димочки Философова, который является как бы помощником редактора «Речи» при погибающем от массы дел Ганфмана. Итак, не угасает надежда, что они еще придут… Вчера Перетц, побывавший в Главном штабе для жалованья, узнал, что все там спешно эвакуируются, ибо уже шесть эшелонов немцев двинулись от Нарвы.
Большие терзания доставляют Евгении Ивановне путаные истории с домовым комитетом, во главе которого поставлен девятнадцатилетний мальчишка с лицом кретина.
Прихожу сегодня к Половцову (мы должны вместе осмотреть Инженерный замок, но мне назначили второе заседание нашей комиссии), он сидит расстроенный, бледный после бессонной ночи. Оказывается, обыск у его племянника Д.А.Шереметева (заподозрили, что часто ездит в Финляндию, но там живут его родные), а заодно и его обыскали, хотя мандата у них не было, и каждую бумажонку Половцова читали, нашли одну, которая им показалась подозрительной (просьба брата о высылке 200 или 300 тысяч). Не добрались до ящика, в котором были опасные бумаги — корреспонденция с высочайшими особами. Да этот ценный исторический материал Половцов и сжег за утро. А нечто вроде дневниковых записей он предложил мне сохранить, вырвав их из изящного переплета. Это оказались записи его поездки по фронтам и беседы военных спецов о том, кого определить в диктаторы России для ее возрождения и освобождения от красной крамолы [13].
Второе заседание коллегии убедило меня, что мне в ней не быть жильцом. Начать с того, что Ятманов водрузил, несмотря на общий протест, портреты вождей, ссылаясь просто на то, что такова воля Луначарского. На то его, Господня, воля. Ну а затем и состав подобрал не в моем вкусе. На заседании была пущена масса шпилек по адресу Луначарского.
Вернулся из деревни Верейский и рассказал массу случаев произвола среди крестьянства, о смутьянах комитета бедноты.
На западе завязались бои. Дай Бог, чтобы это были последние, решающие. Пока будто успех на стороне русских.
В «Правде» отповедь буржуазной интеллигентной культуре, прямо упрекают мирискусников. Во многом они правы, но не им говорить. Вся культура больна омерзительной болезнью, а не одна якобы буржуазная, интеллигентская… Как ни плохи, ни грубы, ни глупы, ни противны большевики, но есть еще хуже — некультурные в основе, глупые и омерзительные, но еще более опасные правые элементы нашей интеллигенции.
Всех их соединяет одно — полное нежелание считаться с Жизнью, какая-то страсть к принуждению и порабощению, какая-то органическая неспособность быть самим свободными и предоставлять свободу другим.
Теперь эти кретины — родственники Бушена — хлопочут о том, чтобы ринуться в объятия немцам, дабы те им помогли отвоевать обратно у германцев Россию, причем в будущем мерещатся и проливы Дарданеллы. А тем временем англичане — не промах, уже забрали Мурманскую дорогу и продвигаются сюда шестью эшелонами — кошмар. И, пожалуй, большевики слетят довольно скоро.
Утром Стип относил деньги за проданные на выставке ОПХ картины Аргутинского.
В самой деспотии России Николая Палкина дышалось куда свободнее (по-пушкински свободнее!), нежели теперь, в лучах всевозможных свобод! Горький зовет меня завтра к себе…
Оказывается, Горький меня позвал, во-первых, чтобы отпраздновать его день рождения обедом, и, во-вторых, сообщить свой проект устройства в Петербурге Музея восточного искусства, для создания которого он хочет заручиться участием Луначарского. Я вполне согласен с идеей и предупредил, как бы не натравить большевиков на новые грабежи. Обедали Петров-Водкин, Гржебин, Смушкевич, Ракитский и Ладыжников. Горький сидел в своем золотом ристалище в китайском халате. Он был мил и доволен всем, о политике совсем не говорил, лишь иронизировал над легкомыслием Луначарского. На столе — огромная корзина с цикламенами и подношения служащих «Новой жизни». К обеду — рассольник, окорок и бутылка бордо.