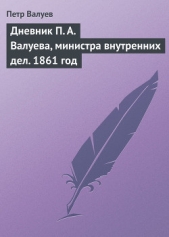Дневник. 1918-1924

Дневник. 1918-1924 читать книгу онлайн
Дневники Александра Николаевича Бенуа (1870–1960), охватывающие 1918–1924 годы, никогда прежде не печатались. Знаменитый и модный живописец, авторитетный критик и историк искусств, уважаемый общественный деятель — он в эти трудные годы был художником и постановщиком в Мариинском, Александринском и Большом драматических театрах, и иллюстратором книг, и заведующим Картинной галереей Эрмитажа. Свои подробные ежедневные записи Александр Бенуа называл «протоколом текущего безумия в атмосфере чада, лжи и чепухи».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В вечерних газетах сенсационные сведения о взятии Одессы, о денационализации банков. Встревожен я и пожаром канатной фабрики на Выборгской, неужели это погорел и Эдвардс? Фаберже через Тройницкого заявил, что он берет миниатюру Обера за 2000 руб.
Стип снова остался ночевать. За вечер он «оттаял» совершенно. Сейчас он занят каким-то стратежемом в Смольном и собирается идти завтра к Рейтерну. Пили у нас чай Эрнст и Замирайло. Последний прямо не дождется немцев. Особенно он возмущен грязью и павшими лошадьми, лежащими неделями на улицах. По одной такой, у Тучкова моста, из-за сугробов ездят, и она растаскивается по кускам колесами.
Я посетил сегодня одно из сладчайших мест своего детства — кондитерскую Берэна. Боже, какая жуткая картина! Все шкафы и прилавки стоят пустыми. Торгуют конфетами «помадками» по 18 и 20 руб. за фунт… Куда все это провалилось?!
Снова после большого перерыва (из-за судорог в руке) появились «Несвоевременные мысли» Горького. Одна есть сплошное надругательство над русским народом, другая содержит жалобы по поводу расстрелов, кончается призывом к единому демократическому строю (сказать иначе!). В искренность первой я не верю, во второй — сомневаюсь. Это перепевы старого Горького — «Буревестника», ныне сидящего в теплом гнездышке, познавшего, что «гнездышко» вообще неплохая вещь, что оно-то и есть то, о чем он и тогда мечтал; что значат вообще эти призывы к демократии с исключающей все другие элементы «диктатуры пролетариата»? Но вот этого я понять и не могу. Почему его диктатура? Какая лесть, какая реализация самого мещанского и в то же время разбойничьего (без романтики) требования: «А буржуям — никогда!» Или это просто фраза, ничего не означающая, «клише» наших дней? По Горькому подобное — никакое клише — не получается.
Имел сегодня длиннейшую и довольно занимательную беседу с Ятмановым и Штеренбергом. У нас должно было быть совещание с Верещагиным и Вейнером о взаимоотношениях, но я запоздал по милости Браза, его новых картин [12], его вкусного вина — и теперь радость, и отсутствие трамвая на целый час, и когда я прибыл во Дворец, моих товарищей там уже не было. Тут меня сцапали эти два представителя власти. Почему-то (может быть, после того, что Ятманов был осажен) говорилось сегодня легче. Да и вышло это как-то уютно: дивное веселое солнце с Невы, играя золотыми рефлексами по откосам окон, по старинным фрейлинским занавесам, сообщило всему весеннюю радость. Благодаря ему, я думаю, во мне так на сей раз и не зашевелилась злость, обыкновенно мешающая мне развивать перед людьми, мне чуждыми, свои мысли за пределы каких-то кратких, схематических предисловий. Может быть, я даже был слишком откровенен (на откровенность меня провоцировала как явная тупая глупость Ятманова, так и хитрая улыбочка, почти что подлизывающая — я, мол, со всеми заодно — позиция Штеренберга, которому и кровь помогает быть более тактичным, для которого пребывание в Париже не прошло даром). Но когда так все прекрасно, то исчезает как-то грандиозность труднейшей расчетливости, которая обыкновенно зажимает уста. Наконец-то договорились до конца, хотя в конце беседы чувствую, что все равно это не дано, что все равно словами не сломать то, что является в каждом из собеседников его главной внутренней твердыней. Но авось, если мне и не сломать тюремные и участковые стены товарища Ятманова, то, по крайней мере, я такими беседами подведу под них самые огромные шурфы для закладки мин. А подобная борьба разрушает совершенно необходимость запретов, ибо он — Ятманов — может оказаться еще более фатальным для искусства человеком, нежели Макаров — ставленник Керенского.
Важно теперь перетащить на свою сторону более гибкого (как будто прямо каучукового) Штеренберга. Именно последнее имея в виду, я его позвал к себе назавтра и снова заявил о своем желании так же по душам побеседовать с Луначарским. Разговор начал с обсуждения конструкции второй (музейной) коллегии. С него очень скоро мы перешли на выяснение вообще моих отношений с ним (почему я отказываюсь вступать в первую и какие у меня сомнения относительно возможности состава второй), ведь снова не пойдут многие, и если они не пойдут, то в обществе начнутся снова нападки на правительство. Тут нужно подождать до того момента, когда власть нынешнего правительства совершенно утвердится и в то же время сама более приблизится к реальным условиям жизни. Ведь это уже типично, что большевик Штеренберг теперь говорит о своем предпочтении монархии кадетизму и соглашательскому социализму (что в порядке вещей), а оттуда мне уже было нетрудно направить разговор снова на больной вопрос — о частной собственности, что в художественной жизни связано с этим институтом — базой всей культуры. Ятманов: «О какой культуре вы говорите, Александр Николаевич?» — «Я говорю о культуре вообще, о реальном достоянии культуры, о том, что есть и из чего следует тот же непреложный закон, будет вырастать новая, в сущности, все та же культура». — «Но ведь, Александр Николаевич, вы говорите о прошлой, ведь мы же видим, к чему эта культура нас привела!» — «Повторяю, я не знаю этуили тукультуру. Я знаю культуру вообще, одну созданную человечеством культуру, или, если хотите, то, что просто всей жизнью человечества накоплено, то, что ему дает возможность еще копать, обрабатывать землю по своему вкусу, быть хозяином жизни. А если эта культура и привела нас к ужасам войны, то это еще не значит, что она же не найдет и выход из нее. Присущий ей инстинкт самосохранения — это главный компас культуры — выведет ее из тупика!»
Конкретно мы попали снова на больной вопрос о выкупе художественных ценностей. Вопрос этот как будто частный, но в нем, как в жизни, схвачены, конденсированы многие другие самые общие вопросы. И мало того, именно он является пробным камнем для распознания, какая стихия живет в человеке: стихия свободы или стихия рабства — все равно активного (то есть порабощения) или пассивного (то есть подчинения). Прямо поразительно, как, попадая на него, нелогичный, беспомощный Ятманов становится «логическим», последовательным, энергичным, до чего он теряет обычную и нахальную робость и впадает в тон почти вещающий, экзальтированный. Видно, что это его глубоко волнует. Он даже бледнеет и закрывает глаза — что особенно усиливает сходство его головы с фотографиями кадавров из Моро. И во всем этом волнении проявляется одна только стихия полицейского, городового опричника. Я ему на это сегодня прямо указал: и ведь то, что он рекомендует — суть просто полицейские, ненавистные полицейские меры, практикуемые старой полицией, и он действительно обеспокоен тем, что столько вещей может теперь пойти по рукам, что целые коллекции могут распасться, что многое уйдет за границу. Казалось бы, чего об этом беспокоиться интернационалисту? Луначарский — тот логично, по словам Штеренберга, заявил своим коллегам, что он предпочитает любоваться картиной в Берлине, нежели знать, что она, спасаясь от врагов, погибла. Он мечтает о драконовых мерах, об учете всех художественных коллекций, о каких-то «коллекционных паспортах» (только сообщающих сведения о своих вещах: получившему паспорт собственнику будет разрешено продавать свои драгоценности, но и то не иначе как целиком), о том, что сопротивляющихся надо сажать в Петропавловку. И забавнее всего то, что обо всем этом хлопочет человек, едва ли когда-нибудь бывавший в Эрмитаже или видевший какую-либо коллекцию. Человек совершенно дикий и невежественный. Между тем стоит ему опереться на какой-нибудь идиотский Союз художников-социалистов, стоит ему словить Луначарского в удобный момент или просто в паузе между двумя лекциями — и вот подпись под декретом; «его надо издать безотлагательно» — твердит Ятманов, а о том, что затем пойдут неимоверные беды, он не думает.
Вот и подтверждается, что с ними мне быть действительно нельзя. Их сбросит жизнь, как нечто чрезмерно глупое, как слишком тяжелые оковы, причину общей голодной смерти, общего обнищания. Я не сочувствую ни в малейшей степени их утопиям, которые мне представляются апофеозом мещанства (общую сытость и общее призрение можно бесконечно легче достичь без этой общей ломки всего имперского) насыщения и просто, иначе говоря, «материальной» культуры. Наконец, «стихия» их мне теперь стала более ясной и окончательно опостылой. Правда, я их и теперь предпочитаю кадетам, эсерам и прочим слюнтяям и фантазерам. Но это предпочтение есть чисто эстетическое, меня просто до известной степени (все меньше) пленит их лиризм, даже Ятмановым — этим заклятым врагом — я любуюсь, хотя именно его смертный приговор не возбудил бы во мне ни малейшей жалости. Зато на них как на личностей я больше не возлагаю надежд. Нет, не эти Пустосвяты и Аввакумы дадут того нового Петра Алексеевича, не они спасут и мир вообще. Все эти мозгляки, внежизненные книжники, только потому и заполнили всю жизнь, что она замерла, зачахла благодаря войне. Теперь же, если мир войдет в силу, жизнь возьмет постепенно свое. Может быть, и среди них имеются свои Талейраны, Бонапарты или хотя бы Сийэсы? Но покамест я их не нащупываю, покамест я все же думаю, что эти спасители выйдут из иной среды, менее одержимые болтливостью, менее одержимые теориями благополучия, более близкие к простой действительности.