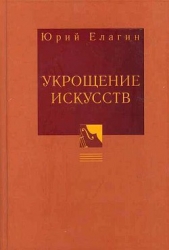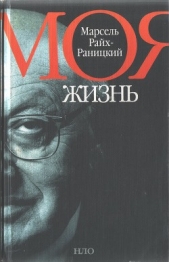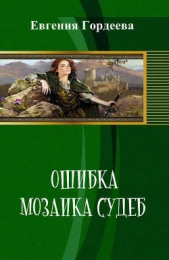Мозаика еврейских судеб. XX век
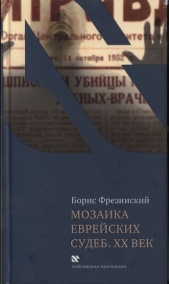
Мозаика еврейских судеб. XX век читать книгу онлайн
Книга историка литературы Бориса Фрезинского содержит 31 сюжет. Их герои — люди как общеизвестные (Соломон Михоэлс, Натан Альтман, Илья Ильф или Василий Гроссман), так и куда менее знаменитые. Все они жили в XX веке — веке мировых катастроф — и работали преимущественно на территории Российской империи или СССР. Книга не случайно начинается с повествования об убийстве Соломона Михоэлса — знакового для советской эпохи преступления, обнажившего начало нового политического курса Сталина…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дожив до глубокой старости, Шкловский сохранил пылкость речи, свежесть слова, энергию мысли, темперамент. Внук Всеволода Иванова Антон в воспоминаниях о деде рассказывает, как после смерти деда Шкловский жил у них на даче и дописывал длинную книгу о Толстом. Антон зашел к нему позвать обедать. Шкловский рявкнул: «Пошел вон, я работаю!» Потом сообразил, что не хорошо: «Минут через пять Шкловский стремглав примчался в столовую, со свойственной ему экспансивностью внезапно остановился— так, что казалось, сама столовая продолжает двигаться, приняв на себя часть внезапно остановленной энергии вошедшего, и рассыпался в извинениях…»
Он не раз публично отказывался от своих ранних работ, сделавших ему литературное имя. В «оттепель» их широко переводили на Западе, пришла мировая слава [24] и вместе с ней старость. В России регулярно издавали новые книги законопослушного Шкловского — он продолжал размышлять о прозе и о прошедшей жизни. «Для 86 лет он выглядит хорошо, — записала в 1980-м Л. Я. Гинзбург, — но плохо ходит; нога забинтована. Говорил он много и возбужденно, под конец устал. Он говорил бы точно так же, если бы к нему пришла аспирантка первого курса. Это ему все равно… Он наглухо отделен от другого, от всякой чужой мысли. Другой — это только случайный повод. Ему кажется, что он все еще все видит заново и все начинает сначала, как 65 лет тому назад». Размышляя о Шкловском, знавший его более сорока лет Илья Эренбург написал в мемуарах «Люди годы, жизнь»: «Мне кажется, что этому пылкому человеку холодно на свете». А внук Виктора Борисовича Н. Шкловский-Корди, публикуя в «Вопросах литературы» 42 чудесных письма, полученных от деда в 1964–1974 годах, заметил: «По-настоящему в мире он любил себя во вдохновении — и это было сильное впечатление, когда его захватывала эта „вьюга“».
Одного года не дожил Шкловский до перемен в стране — он умер в 1984-м. В наступившую новую эпоху наконец-то переиздали его старые и не стареющие книги.
Критик и мемуарист Бенедикт Сарнов любил Шкловского, дружил и часто встречался с ним в его последние годы. Сарнов вспоминает:
«В последний раз я встретил Виктора Борисовича незадолго до его смерти. Он медленно брел по двору нашего „старого писательского“ <дома>, опираясь на плечо внука — Никиты.
Даже не опираясь, а налегая на него всем телом и еле волоча ноги.
— Что делаете? — спросил он.
Я ответил, что пишу книгу для Детгиза.
— Какая книга? О чем?
Чтобы не вдаваться в долгие объяснения, я ответил коротко:
— Наполовину теоретическая, наполовину занимательная.
— Ну, авось какая-нибудь половина пройдет, — усмехнулся он. (Не прошла ни одна).
Усмешка была прежняя, „шкловская“. И в глазах, старческих, слезящихся, мелькнула так хорошо знакомая мне неугасающая „шкловская“ ирония.
Стоять ему было, наверно, даже еще труднее, чем передвигаться. Но было это, как он тут же мне объяснил, не от дряхлости, а потому, что когда-то пуля угодила ему в крестец, и вот теперь эта давняя рана дала о себе знать.
Я легко поверил, что ноги не слушаются его не из-за старости, хотя было ему без малого 92 года. Поверил безоговорочно, потому что, несмотря ни на что, это была не „тень Шкловского“, не „то, что осталось от Шкловского“, а самый что ни на есть настоящий, доподлинный, живой Шкловский»…

В. Б. Шкловский, 1920-е гг.

В. Б. Шкловский, 1970-е гг.

Автограф В. Б. Шкловского на его книге «Литература и кинематограф» (Берлин, 1923): «Илье Эренбургу — еврею в пустыне. Виктор Шкловский 1923»
Зовущий «На Запад!» Лев Лунц
Самый молодой, веселый и одаренный Серапионов брат Лев Лунц — драматург, прозаик, публицист, знаток западных литератур — родился и почти всю свою короткую жизнь прожил в Петербурге-Петрограде. Если вам случится быть на Троицкой улице (давно уже — улица Рубинштейна), обратите внимание на дом 26 — здесь в подвале еще недавно располагались издательство «Академический проект», книжная лавка и кафе, а раньше в доме был аптекарский магазин Натана Лунца — отца Левы. Здесь-то юный Лунц и работал; здесь написано почти все, что составляет его литературное наследие. Возможно, беспокойный и не знающий старости дух Левы Лунца еще обитает в его доме. В любом случае — замедлите шаг и поклонитесь этому месту…
Лунц был западник и считал, что русская литература должна учиться у западной литературы сюжетности — традиционная аморфность повествования его удручала. Мемуаристы называют Лунца главой правого фланга Серапионов; но помимо Лунца на этом фланге пребывал лишь Вениамин Каверин — такой же молодой и такой же сторонник сюжетности прозы (он пережил Лунца почти на 70 лет и реализовал свой дар в условиях, как бы это сказать, нечеловеческих). Прочие Серапионы были в большей степени почвенники (если пользоваться словом, употреблявшимся в последние советские десятилетия), с Лунцем они резко спорили или отмалчивались в ответ на его филиппики, но все его нежно любили.
Лунц принадлежал к тем одновременно счастливым и несчастным людям, которые дышали воздухом революционных перемен, не думая об уместности противогаза. Лунц многого ждал от революции, допуская, правда, что из всего этого может произойти нечто прямо противоположное его ожиданиям. В отличие, скажем, от Булгакова, который любил дореволюционную жизнь, ненавидел Троцкого и вполне зауважал «хозяина» Сталина (пьеса «Батум» написана не по принуждению), Лев Лунц не был противником революции. Но он не желал терпеть от новой власти хамства. В феврале 1921 года в знаменитой декларации «Почему мы Серапионовы братья?» Лунц писал о «периоде величайших регламентаций и казарменного упорядочения, когда всем был дан один железный устав». Запальчивый Лунц был в ладах с историей: «Слишком долго и мучительно истязала русскую литературу общественная и политическая критика. Пора сказать, что „Бесы“ лучше романов Чернышевского. Что некоммунистический рассказ может быть гениальным, а коммунистический — бездарным». Тогда за такие слова не обязательно сажали, но спектакль по пьесе Лунца «Вне закона» в Александринке был запрещен лично Луначарским (признаем — не самым большим погромщиком в советской культуре; принято считать, что даже — наоборот); вскоре все пьесы Лунца запретили на всей территории СССР.
Еще будучи студентом-филологом Петроградского университета, Лунц профессионально изучал западные литературы (особенно тщательно и влюбленно — испанскую). В те годы большинство литераторов хорошо помнило недавно отошедший век, принесший русской литературе мировую славу и всеобщее признание. Однако время на месте не стояло, и умиление сменилось анализом: пришла пора формалистов. Вопрос, как сделана «Шинель» Гоголя, поставленный ими в повестку дня и в общем виде ими же решенный, ощущался Серапионовыми братьями как профессионально значимый. Юный Лунц вопрос «как сделано» распространил на современную русскую литературу и нашел, что сделано скучно. То есть, он, конечно, признавал мировое значение Толстого и Достоевского, даже Чехова, но в современной российской прозе ощущал явный отход от великого и правильного пути. Литература, считал он, не делается усилиями одного, пусть даже гения, — поле должно быть удобрено массой экспериментирующих, только тогда на нем взойдет нечто значительное. Засевшие же на поле современные авторы почти не экспериментировали, а следовательно, и почти не удобряли его (тут Лунц не смущаясь называл тогдашние первые имена — Бунин, Зайцев, Белый, Ремизов, А. Толстой, Замятин). Лунцу казалось, что он точно знает ключ к мировому успеху — фабула, занимательность, сюжетность, и знает, у кого надо учиться: Гофман, Дюма, Стивенсон. Замечу, точности ради, что, сталкивая, например, романтика Гюго с реалистом Стендалем, Лунц тем не менее искусство фабулы ценил у обоих, так что лунцевский лозунг «На Запад!» допускал не одну-единственную полосу движения, однако всех возможных «полос» он, конечно, не учитывал.