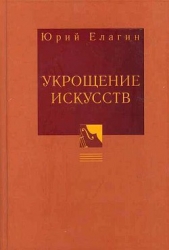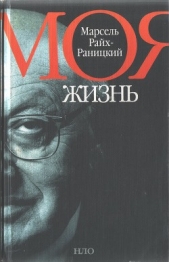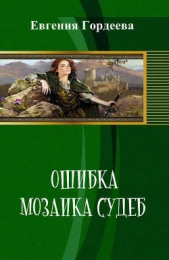Мозаика еврейских судеб. XX век
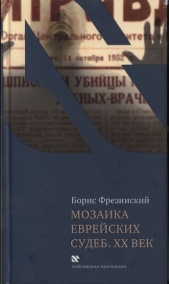
Мозаика еврейских судеб. XX век читать книгу онлайн
Книга историка литературы Бориса Фрезинского содержит 31 сюжет. Их герои — люди как общеизвестные (Соломон Михоэлс, Натан Альтман, Илья Ильф или Василий Гроссман), так и куда менее знаменитые. Все они жили в XX веке — веке мировых катастроф — и работали преимущественно на территории Российской империи или СССР. Книга не случайно начинается с повествования об убийстве Соломона Михоэлса — знакового для советской эпохи преступления, обнажившего начало нового политического курса Сталина…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вениамин Каверин в книге «Эпилог» именно словами «Я подымаю руку и сдаюсь» назвал главу, посвященную Шкловскому, придав этим словам глубоко символический и как бы пророческий смысл. Из 1922 года усмотрел Каверин «сдачу» Шкловского, приобретшую отчетливые внешне черты лишь в 1930-е годы.
Дружба Шкловского с Горьким знала свои приливы и отливы; в Берлине они в итоге поссорились, и в 1925 году Горький писал Федину резко: «Шкловский — увы! „Не оправдывает надежд“. Парень без стержня, без позвоночника и все более обнаруживает печальное пристрастие к словесному авантюризму. Литература для него — экран, на котором он видит только Виктора Шкловского и любуется нигилизмом этого фокусника. Жаль». С позвоночником тогда были уже проблемы и у самого Горького, но это совсем другой сюжет…
Шкловский был литератором, сложившимся уже к моменту встречи с Серапионами, — а они еще только учились. Пока ему с ними возиться было интересно, он возился, потом, по возвращении в Сов. Россию, закрутила и жизнь, и литература — из Берлина он вернулся не к Серапионам в Питер, а, вспомнив футуристов, в Москву, в ЛЕФ — группу боевую, с заявленной идеологией, литметодой, лидером и т. д. — и какое-то время сверкал там. Он стал вместе с Маяковским одним из лидеров ЛЕФа, увлекся кино (как и Тынянов). В 1926 году вышла его книга «Третья фабрика». Она открывалась объяснением названия: «Во-первых, я служу на 3-й фабрике Госкино. Во-вторых, названье объяснить не трудно. Первой фабрикой для меня была семья и школа. Вторая ОПОЯЗ. И третья — обрабатывает меня сейчас. Разве мы не знаем, как надо обрабатывать человека? Может быть, это правильно — заставлять его стоять перед кассой. Может быть, это правильно, чтобы он работал не по специальности. Это я говорю своим, а не слоновым голосом. Время не может ошибаться, время не может быть предо мною виноватым». Публичное признание того, что время всегда право, начинало одну из главных тем книги — о свободе искусства, вернее, о ее необязательности. «Есть два пути сейчас, — развивал свои соображения Шкловский. — Уйти, окопаться, заработать деньги не литературой и дома писать для себя. Есть путь — пойти описывать жизнь и добросовестно искать нового быта и правильного мировоззрения. Третьего пути нет». Но Шкловский не был бы Шкловским, если бы, сказав «третьего пути нет», не добавил: «Вот по нему и надо идти. Художник не должен идти по трамвайным рельсам». И опять же Шкловский не был бы Шкловским, вернувшимся в СССР, если бы не развил эту мысль: «Путь третий — работать в газетах, в журналах, не беречь себя, а беречь работу, изменяться, скрещиваться с материалом, снова изменяться, скрещиваться с материалом, снова обрабатывать его, и тогда будет литература». Ничего этот путь дать не мог. Шкловскому пришлось смириться с засилием пустых книг и — более того — временами публично петь им дифирамбы.
В 1929 году друг Шкловского, не писавший прозы, Б. М. Эйхенбаум утверждал в книге «Мой современник»: «Шкловский совсем не похож на традиционного русского писателя-интеллигента. Он профессионален до мозга костей — но совсем не так, как обычный русский писатель-интеллигент… В писательстве он физиологичен, потому что литература у него в крови, но совсем не в том смысле, чтобы он был литературен, а как раз в обратном. Литература присуща ему так, как дыхание, как походка. В состав его аппетита входит литература. Он пробует ее на вкус, знает, из чего ее надо делать, и любит сам ее приготовлять и разнообразить».
Бенедикт Сарнов в емкой статье «Виктор Шкловский до пожара Рима» вспоминает свой разговор со Шкловским в начале 1960-х годов, свои жалобы как раз на то, что «время виновато», и сокрушительный ответ Виктора Борисовича: «Понимаете, когда мы уступаем дорогу автобусу, мы делаем это не из вежливости». Образ, что и говорить, производит впечатление, но, если бы все так боялись автобуса, он бы никогда не сделал перерыва в своих безжалостных наездах на нас…
Последняя знаменитая книга Шкловского называлась «Гамбургский счет», она вышла в 1928 году, и с тех пор ее название стало крылатым. Потом Шкловский старался держаться на плаву, писал свои не задерживаемые цензурой книги и откликался на чужие. При его темпераменте и остром уме это не всегда бывало легко — скажем, пылко хвалить в газете фильм Чиаурели «Клятва», воспроизводящий историю, фальсифицированную Сталиным [21].
Шкловскому повезло — его не арестовали; в 1939 году он даже получил орден Трудового Красного Знамени — это надо было заслужить. И все же орден — далеко не вся правда о Шкловском. В страшные годы террора «в Москве был только один дом, открытый для отверженных», — таково дорогого стоящее признание в «Воспоминаниях» Н. Я. Мандельштам, оно — о доме Шкловского. Исключительно сердечно, что ей в общем-то не свойственно, пишет Н. Я. о Василисе Георгиевне Шкловской… И еще одно важное свидетельство вдовы Мандельштама о времени террора: «Шкловский в те годы понимал всё, но надеялся, что аресты ограничатся „их собственными счетами“. Он так и разграничивал: когда взяли Кольцова, он сказал, что это нас не касается, но тяжело реагировал, если арестовывали просто интеллигентов. Он хотел сохраниться „свидетелем“, но, когда эпоха кончилась, мы уже все успели состариться и растерять то, что делает человека свидетелем, то есть понимание вещей и точку зрения. Так случилось и со Шкловским».
В конце Отечественной войны Шкловского ждал тяжелый удар. 24 марта 1945 года Паустовский писал Никитину: «У нас в Лаврушинском печально — 8 марта погиб в Восточной Пруссии сын Шкловского Никита (Котя)… был в противотанковой артиллерии…»… В 1947 году Вс. Иванов записал в дневнике: «Заходил Шкловский… У него провалилось сердце — не может забыть смерть сына»… Уже под старость Шкловский развелся. К новой его спутнице, С. Г. Суок, неизменно оберегавшей писателя от каких-либо политических сложностей, мемуаристы строги [22]… Сам Шкловский к себе был строг и нестрог. 20 июля 1969 года он писал любимому внуку: «Я создавал науку. Удачи шли сплошняком с 1914 по 1926 год. Были одни победы. Они избаловали меня, и я забыл обычную работу, стал сразу председателем ОПОЯЗа, руководителем. То, что я не знал языки, отрезало меня от мира. Потом я ушел в литературу и кино, опять имел удачи и злоупотреблял легкостью успеха. Злоупотреблял удачей. Презирал оппонентов и даже обычно не читал их. Тут еще вторичную роль сыграли цензурные условия и необходимость зарабатывать. В результате я прожил разбросанную и очень трудную и противоречивую жизнь. Я сжигал огромный талант в печке. Ведь печь иногда приходится топить мебелью».
Хорошо помню, как торжественно отмечали в Москве 80-летие Виктора Борисовича. Он сидел в роскошном кресле на сцене ЦДЛ и улыбался. Говорились речи, вручались приветствия и подарки. Бесцветный ответработник читал по бумажке поздравление, в нем говорилось о заслугах Шкловского и сообщалось, что, отмечая эти заслуги, решено издать собрание его сочинений. Вспыхнули аплодисменты. «Собрание сочинений, — повторил чиновник, — в трех томах». И тут раздались возмущенные выкрики: «Почему в трех? Как не стыдно!» — действительно, сочинения всех бездарных литначальников издавались многотомными, а Виктору Шкловскому, писателю мировой известности, отпустили всего три тома. Чиновник занервничал, что-то бормотал, он явно напугался скандала. Но больше всех перепугался Шкловский. Он вскочил со своего роскошного кресла, подбежал к краю рампы и громко прокричал, что он всем доволен, что ему совершенно достаточно трех томов, что он очень признателен Комитету по печати, и прочее, и прочее. Все это было и смешно, и грустно.
Необоримый страх, временами охватывавший Шкловского, проявлялся не раз — и в выступлении против Зощенко в 1944-м, и в поддержке шельмования Бориса Пастернака в 1958-м, и в том, как не хватило духа поддержать Каверина в борьбе за издание книги Льва Лунца, значение которой он хорошо понимал, но, узнав, что начальство недовольно этой затеей, ушел в кусты. Думаю, что только в этом объяснение тех уничижительных слов о Шкловском, которыми обмолвилась незадолго до своей смерти Ахматова… [23]