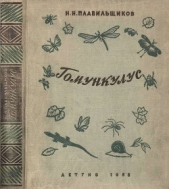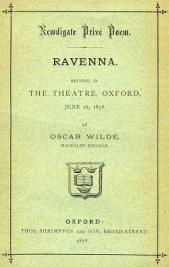Дарвин и Гексли

Дарвин и Гексли читать книгу онлайн
В книге рассказывается о жизни и деятельности двух великих английских биологов: основателя эволюционной теории Чарлза Дарвина и крупнейшего борца за дарвинизм Томаса Гексли. Повествование основано на глубоком изучении документальных материалов и разворачивается на широком историческом фоне.
APES, ANGEIS, AND VICTORIANS
DARWIN, HUXLEY, AND EVOLUTION
William Irvine
Meridian Books
The World Publishing Company
Cleveland and New York
Fifth edition, 1967.
Послесловие И. А. Рапопорта
Примечания Е. Э. Казакевич
Художники Ю. Арндт, М. Папков
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Под уверенный и бодрый басок оратора Гексли наблюдал, как в зале ощутимо растет враждебность к дарвинистам. Как тут дашь противнику достойный отпор? Смешно пытаться за десять минут пересказать «Происхождение видов», изложить теорию и доказательства. Но Гексли был не из тех, кого невыгодная обстановка повергает в уныние. К тому же он с удовлетворением отметил, что епископ, хоть и нашпигованный подсказками Оуэна, в сущности, не ведает, о чем вещает. Тем не менее, умело играя на общераспространенной склонности считать вздором все новое, он расправлялся с дарвинизмом, так упоенно изощряясь в плоском острословии и сарказмах, так смачно и изобретательно толкуя ни о чем, что ему явно начинали поддаваться даже трезвые мужи науки. Наконец, опьяненный успехом, он с деланной любезностью обратился к Гексли и пожелал узнать, кому тот обязан честью происходить от обезьяны — своему деду или бабке?
Это его погубило. Он пробил брешь в броне, прикрывавшей его пустоту. Гексли хлопнул себя по колену и, к изумлению важного соседа-ученого, негромко воскликнул:
— И предал его господь в руки мои.
Под восторженный рев зала, средь моря трепещущих белых платочков епископ опустился на место. Теперь послышались крики: «Гексли!» По знаку председателя Гексли встал, высокий, сухопарый, узкоплечий, в долгополом черном сюртуке и высоченных крахмальных воротничках. В лице его не осталось ни кровинки, глаза и волосы были черны, как смоль, длинные губы дерзко, воинственно выпячены. Его манера держаться, угаданная безошибочным чутьем хорошего актера, была в той же мере исполнена серьезности и спокойного достоинства, в какой манера епископа — развязной веселости. Он сказал, что находится здесь единственно в интересах науки и пока еще не услышал ни одного убедительного довода из уст противников его подзащитной. Теория Дарвина, говорил он, есть нечто гораздо большее, чем гипотеза. Она — лучшее из выдвинутых до сих пор объяснений истории биологических видов. Мимоходом отметив очевидное невежество епископа в науках, связанных с обсуждаемой проблемой, Гексли ясно и сжато изложил суть основных положений Дарвина, а под конец еще более серьезно и спокойно заметил, что не устыдился бы признать своим предком обезьяну, зато счел бы «постыдным родство с человеком, употребляющим незаурядное дарование на то, чтобы затемнять истину».
Эффект был потрясающий. Враждебно настроенная аудитория наградила его почти такими же овациями, как епископа. Одна из дам в сей критический миг обнаружила свою чувствительность тем, что (прибегая к выражению, первоначальный смысл которого ныне утрачен) лишилась чувств. Епископ, сам того не ведая, уготовил себе мученический конец и пал под градом собственных низкопробных издевок, внезапно обратившихся против него самого. Адвокат дарвинизма совершил это убиение с великолепной, артистической простотой, стерев ортодоксальность в порошок меж жерновами фактов и правды, этой высшей добродетели викторианской [11] эпохи.
Затем встал Джозеф Гукер и собрал небольшой гербарий на могиле, где покоилась отныне научная репутация епископа. Уилберфорсу нечего было ответить. Заседание объявили закрытым. Гексли поздравляли многие, в том числе и духовные лица, на удивление искренне и сердечно. По дороге домой Гексли сказал Гукеру, что этот случай заставил его изменить свое мнение о практической пользе ораторского искусства и что он будет отныне всячески в нем совершенствоваться и пытаться побороть свое отвращение к нему. Гексли был не чужд романтической утонченности — во всяком случае, настолько, чтобы воображать, будто ему претит выступать с публичными речами. Подлинные его чувства в, те минуты выдает другая фраза, принадлежащая ему же:
— Я сдерживался… и не брал ответного слова, пока от меня того не потребовали — а уж тогда дал себе волю.
Так книга, написанная другим, решила судьбу Гексли, и молодой профессор-палеонтолог, нежданно открыв в себе несомненные воинские таланты, сделался признанным борцом за науку в одну из самых драматических минут ее истории. Он отстаивал эволюцию по Дарвину, ибо видел в ней применительно к жизни на Земле научную истину такого же значения и масштаба, как теория Ньютона применительно ко вселенной, ибо в теории Дарвина, и это главное, таилось обещание того, что, познав законы своего бытия, человек с помощью науки, возможно, сумеет когда-нибудь сделать свою жизнь целесообразной и упорядоченной.
Он не сомневался, что его победа над епископом есть победа света над мракобесием. Со свойственным ему оптимизмом он не верил, что свобода науки может достаться лишь ценой известных духовных жертв, что нелепая теория о сотворении мира может служить важным источником душевной энергии, что она может каким-то образом быть связана с устойчивостью современных ему нравов. Положим, добро не совершается без себялюбивых побуждений, но и из этих побуждений, считал он, наука способна дать куда более определенные и веские основания творить добро, чем религия. Конечно, он был слишком занят, чтобы разработать собственную научную этику. Его этические взгляды были прямым следствием его миссии полемиста и общепринятых нравственных воззрений его века. Нет выше чести для мыслителя и духовного вождя, чем искать истину; нет долга священней, чем нести эту истину людям. Если судить, исходя из таких правил, епископ вполне заслужил свою участь. Для борьбы с викторианским богословием Гексли призвал на помощь викторианские понятия о нравственности.
У Дарвина богословие обычно вызывало несварение желудка… Не сходство вкусов и характеров и даже не постоянное и близкое общение роднит судьбы этих двух людей. В исследованиях Дарвина куда большее участие, чем Гексли, принимали Гукер и Ляйелл. Тиндаль и Пиенсер принимали куда большее участие, чем Дарвин, в сражениях, которые вел Гексли. Дарвина и Гексли объединяет совместное первенство в создании великой традиции. А также идея, которую один разработал, а другой защищал. Дарвин — это спокойный, медлительный замысел; Гексли — блистательное свершение. Дарвин творил историю; Гексли двигал ее вперед.
2
НАУЧНАЯ ОДИССЕЯ

С естественным для биолога интересом к наследственности Гексли отмечает в «Автобиографии», что получил от отца вспыльчивый нрав, упорство и артистические способности, а от матери — живость восприятия, которую сам, по-видимому, ценил превыше всего; и не напрасно, потому что вместе с любовью к ясности, впоследствии ставшей для него мерилом истины, а заодно и достоинств стиля, она составляет самую основу его ума и характера. Ясность и живость восприятия наделили его хладнокровием, твердостью, уверенностью в себе. Он был всегда готов к бою. Никогда не колебался, никогда не изменял себе. По сути дела, это был не кропотливый исследователь, а скорей человек действия, вдохновенный практик. Он быстро и много читал, охотно и красноречиво выступал, свободно и с блеском писал. Он был наделен бесспорными достоинствами почти так же щедро, как Маколей [12], и почти так же великолепно отвечал требованиям своего времени. Он, опять-таки как Маколей, отличался скромностью в оценке своих достоинств, но и отдавал себе должное, относясь весьма серьезно к своим обязанностям и к миру, в котором жил. По правде говоря, ему были свойственны и некоторые недостатки Маколея, однако в более умеренной форме. Гексли был менее склонен делать из себя и своих добродетелей образчик для массового производства. Он, надо полагать, не ощущал столь сильной потребности в том, чтобы в голове его парадным строем шествовали шеренги готовых мыслей на все случаи жизни. Он был, вероятно, терпеливей в поисках идеи, в единоборстве с проблемой. И, безусловно, не отступал перед трудностями. Метафизика была для него родной стихией. В этом он отличался от Маколея и походил на Вольтера. Он обладал Вольтеровой воинственностью, его жадным любопытством к фактам и теориям, его неистребимым, но зачастую преисполненным духа отрицания и недоверчивости здравым смыслом, рождающим порой невосприимчивость к широким и дерзновенным замыслам.