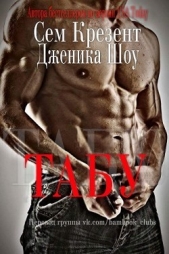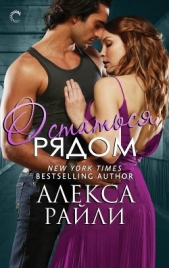Мой сын БГ

Мой сын БГ читать книгу онлайн
Книга Людмилы Харитоновны Гребенщиковой - это не только "детство, отрочество, юность" знаменитого сына в историях, фотографиях и документах семейного архива, публикуемого впервые. Лаконичные, эмоциональные зарисовки автора подобно неизвестным кадрам кинохроники дают интереснейший материал о жизни Ленинграда 30-х, блокадных и послевоенных лет, а также характерный срез культурной жизни 50-80-х годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
1941 год, сентябрь
Помню, в начале учебного года к нам в класс вошел директор в сопровождении завуча. Мы встали. «Дети, - прерывающимся голосом сказал директор, - завтра в школу приходить не надо. Школа закрывается». И вдруг заплакал, закрыл лицо руками и выбежал из класса. Ошеломленные, мы тихо разошлись по домам. Впоследствии я узнала, что наш директор пошел добровольцем на фронт. Там он погиб.
Октябрь
Начались бесконечные бомбежки. Мне было тогда 12 лет. Мы жили уже не на Пушкинской, а в квартире на улице Восстания. Дом у нас был отличный, с паровым отоплением. Лишь на кухне оставалась дровяная плита, которая затем спасала нас в холодные блокадные зимы. Внизу в подвале располагался дровяной склад. С началом войны его превратили в бомбоубежище. Туда составили раскладушки, кровати, сделали лежаки, чтобы ночевать там с детьми. А днем при объявлении тревоги в наше убежище прибегали еще и школьники из соседней 32-й школы, и у них на наших глазах продолжался урок. Учителя вполголоса что-то рассказывали, но все прислушивались к гулу самолета. Часто вверху раздавался свист фугасной бомбы, пол вздрагивал, и раздавался грохот. Мы задирали головы - потолок был цел. Значит, бомба попала не в нас.
Декабрь
Зима 1941/42 года была очень холодной. В доме не работало отопление, не было воды, не работала канализация. В комнате - мороз, как на улице, окна покрыты льдом.
В нашей квартире мы жили двумя семьями. Я с мамой и папой, и еще одна женщина с сыном. Две другие семьи смогли уехать в эвакуацию. Мы перебрались жить на кухню, там топили дровяную плиту. Кухня темная, без окон, поэтому целый день горела коптилка. На столах сделали постели.
Папа продолжал работать на заводе. Трамваи не ходили, идти надо было пешком. Однажды он ушел на работу, но его привели две девушки обратно. Они сказали маме: «Зачем вы его выпустили, он же идти не может?!» Настолько он ослабел от голода. Он стоял у стены, закрыв глаза, и плакал. От унижения, что он, молодой, тридцативосьмилетний мужчина, находится в таком положении. После этого он слег и больше не вставал.
Соседка тоже не могла ходить. Все делала мама: выносила ведра, ходила в магазин, за водой. На Пушкинской улице от зажигательной бомбы загорелся, а потом целый месяц тлел дом № 2. Водопроводные трубы оттаяли, там шла вода. И в этот дом люди с ближайших улиц шли за водой.
Хлеба давали по 125 граммов на человека. Мы крошили его, заливали кипятком и так ели, это называлось тюря. Я удивлялась тогда, насколько это вкусно и почему до войны мы не пробовали такое нехитрое блюдо.
1942 год, январь
Меня мама не выпускала на улицу. Я целый день читала при свете коптилки и ждала, когда по радио Ярмагаев будет читать «Овода». Иногда передача прерывалась страшным воем сигнала тревоги, затем - тиканье метронома, и наконец - отбой.
Мама ходила за хлебом для нас и для соседки. Меня оскорбляло недоверие этой женщины - на аптекарских весах она каждый раз взвешивала свою порцию и порцию своего ребенка. Мама меня успокаивала: «Она же больная, не обращай внимания».
Однажды мама ходила отоваривать продуктовые карточки. Вместо сахара давали повидло. Продавщица забыла вырезать из маминой карточки талон на 5 граммов повидла. Мама пришла и сказала: «Если хочешь - иди. У меня сил нет». Я оделась в шубу и валенки и впервые за зиму вышла на улицу. Тогда я поняла, как трудно ходить по морозу, когда человек плохо питается. Мне казалось, что я раздетая, так я замерзла. Я подошла к булочной на углу Невского и Восстания. Там стояли дети лет пяти-шести, с черными лицами и протянутыми руками. В булочную их не пускали. Им никто ничего не подавал. Как их матери могли выпустить своих детей на улицу за милостыней? Некоторые из них так замертво там и падали. Я пришла от этого в такой ужас. Я вошла в магазин, продавщица сердито взвесила мне эти пять граммов - целую столовую ложку повидла. Больше за зиму я на улицу не выходила.
Февраль
Однажды к нам постучалась соседка, которая жила этажом выше. Молоденькая женщина. Она сказала: «Я узнала, что у вас есть дровяная плита. У меня новорожденный ребенок. Молока у меня, конечно, нет. Но мне в консультации дали соевое молоко. Можно я его согрею у вас?» Мама ей ответила: «Пожалуйста», протянула кастрюлю. А женщина попросила: «Можно я в своей кастрюльке согрею? Потому что на стенках что-то остается, я бы хотела, чтобы все молоко досталось моему ребенку». Она согрела молоко, ушла. На следующий день я жду, когда она придет. Ее нет. Прошло два-три дня. Я спрашиваю: «Мама, ну где же эта женщина? Молоко ведь каждый день надо согревать». А мама неохотно отвечает: «Да умерла она, и ребенок ее умер. У них в квартире все мертвые лежат».
Март
Весной стало чуть легче жить. Вместо бомбежек начались обстрелы. Это уже не так страшно, как бомбы. Чтобы в городе не началась эпидемия от такого количества трупов в домах, начали работать военизированные бригады из девушек, они вывозили умерших. Их свозили на Пискаревское кладбище в братскую могилу. Начала работать Дорога жизни, по льду Ладожского озера шли в город машины с продуктами. Я стала часто заходить в комнату - там было еще холодно, но светло.
Как-то вечером мы с мамой шли по Невскому, и начался страшный обстрел. Мы шли мимо рыбного магазина, в него попал снаряд. Было темно, но на снегу были видны фигуры лежащих людей, кто-то истошно кричал. Мы побежали. Визг снарядов, грохот разрыва - я впервые попала под обстрел.
Апрель
Мы переехали жить в комнату. Обогревались керосинкой. Но какое счастье после полугода абсолютной темноты, просыпаясь, видеть в окне напротив дом, залитый солнцем!
Заработала 32-я школа. Я снова пошла в четвертый класс, который окончила до войны, - оставался последний месяц занятий, и в пятый класс меня бы не взяли. Продуктовые карточки я сдала в школу, там нам давали завтрак и обед. На ужин оставляли кусочек хлеба.
На Пушкинской улице открылась баня. Очередь - во всю улицу, но так как у меня была цинга и от боли в ногах я кричала, нас пустили без очереди. Когда я увидела раздетых женщин, я испугалась. Это были скелеты, обтянутые коричневой кожей. И моя мама тоже стала такая. Но какое блаженство мыться горячей водой!
В город возвращалась жизнь.
Врачи, осмотрев маму, определили последнюю степень дистрофии и послали ее на усиленное питание. В ресторане «Метрополь» на Садовой улице в большом зале стояла длинная очередь из тех, кому поставили дистрофию. Они сдавали продуктовые карточки, и целый месяц их кормили в этом ресторане.
Мама, конечно, приносила мне часть еды. Однажды она принесла в одной банке селедочный суп и какой-то компот. Я заплакала - как можно было слить их в одну банку? Мама говорила: «Все равно в желудке все будет вместе».
Хлеба прибавили. Папа смог уйти на завод. Там он работал и жил вместе с другими рабочими, так как ходить на работу и обратно сил не было. Это называлось «казарменное положение».
В конце весны и летом 1942 года люди, которые жили на Невском, выходили греться на солнечную сторону проспекта. Выносили стулья, табуретки, скамейки, чтобы сидеть, а заодно и какие-то вещи на продажу - альбомы с открытками, книги, игрушки, какую-то одежду. Так на Невском проспекте образовывался стихийный рынок. Мы ходили взад-вперед и смотрели, кто что продает.