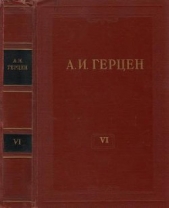С того берега
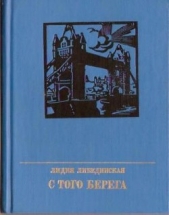
С того берега читать книгу онлайн
В жизни ушедших, и особенно ушедших давно, мы всегда ищем и находим цельность и замысел. Однако на самом деле человеческая судьба не только движется по прихотливой кривой, не только дробится на множество периодов, нередко противоречащих один другому, но даже сама кажущаяся цельность представляется разному глазу неодинаковой в зависимости от точки зрения.
Николай Платонович Огарев, незаурядный русский поэт и знаменитый революционер, не похож ни на его хрестоматийно сложившийся облик, ни на ту личность, что рисуется из статей врагов (предостаточно их было у него, как у всякого яркого человека), ни на тот сусальный, некрологически непогрешимый портрет, что проглядывает из ученых трактатов. Был он весьма разноликим, как все смертные, сложным и переменчивым. Много в нем верности и доброты, причем последнего чересчур. То и другое причиняло ему множество мелких бед и крупных несчастий, но они не только не сломили его, но даже не притупили два этих главных свойства. Верность и доброта сопутствовали ему до смерти. Что ж до цельности жизни, то на самом-то деле постоянно и неизменно испытывал он острые и глубокие терзания от естественной необходимости выбирать. И кажущаяся цельность судьбы — просто цельность натуры, всякий раз совершающей выбор, органичный душе и мировоззрению. Он никогда не лгал и делал выбор с глазами открытыми, всегда сам, кап и подобает свободному человеку, отчего и казался зачастую гибким и пластичным своим современникам, а подчас и весьма странным. Жил он в очень трудное время — но бывают ли времена легкие? Окружали его яркие и своеобычные люди. Нескольких современников его, знакомых с ним или незнакомых, нам никак не миновать, ибо нельзя восстановить облик человека вне той эпохи, в которую он жил, а эпоха — это люди, наполнявшие ее и ею наполненные. Люди, строившие свою судьбу и каждый раз делавшие свой выбор. Оттого, быть может, галерея современников часто больше говорит о человеке, нежели самое подробное описание его собственной жизни. К счастью, осталось много писем. И воспоминаний полным-полно. И архивы, где хранятся не только документы, но и труды, не увидевшие света в свое время. А что до любви к герою — сказать о ней должна сама книга.
Это книга об очень счастливом человеке. Больном эпилепсией, не раз обманувшемся в любви, об изгнаннике, более всего на свете любившем родину, человеке, который осмелился дерзнуть и добился права быть всегда самим собой.
Родился он в тринадцатом году прошлого века 24 ноября по старому стилю, в городе Санкт-Петербурге — упомянем об этом здесь, чтобы сразу же обратиться к его молодости.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Оставался год до того дня, когда он повторит эту клятву вместе со своим ровесником и другом, по неисповедимым путям аристократического российского воспитания пришедшим к той же ненависти и такой же решимости.
Впрочем, первые нити общения с миром злоумышленников (на взгляд, разумеется, полицейский) тянутся к нашему герою от еще одного кружка, упомянуть о котором непременно стоит.
Самое начало тридцатых годов было тоже временем зыбким и смутным, — казалось, отзвуки и раскаты шедшей во Франции революции глухими толчками будоражили и российскую почву, нарушая и возмущая с таким трудом достигнутый покой. А тут еще восстание в Польше, холера сразу в нескольких областях и народная смута, вслед холере непременно вызревающая, кровавый бунт в Новгородских военных поселениях, пожары, столь массовые, что нельзя было не думать о поджогах.
И в разгар этих событий — донос о тайном московском обществе, образованном молодыми русскими вместе с польскими офицерами, порешившими бежать в Польшу через Литву и присоединиться к повстанцам.
Дело о поляках следственная комиссия отделила сразу же — на них донес сам глава общества, клятвенно со слезами уверявший, что и затевал все исключительно ради того, чтобы впоследствии открыть правительству лиц, готовых к пропаганде и возмущению. Историки, изучавшие впоследствии по архивам странное и запутанное это дело, находят Сунгурова личностью малосимпатичной. Интересно, что так же относились к нему, судя по следственным показаниям, и члены злоумышленного кружка. Но такова была жажда деятельности, так хотелось бороться и ниспровергать, что собственную неприязнь забывали они ради общности благородных целей. Потом одумались, правда, собрались было расстаться с Сунгуровым, очень уж он много врал, юлил и недоговаривал, но оказалось поздно. А совершенно очевидно, что были эти юноши личности светлые и прекрасные. Общество они составляли, чтобы ввести в России конституцию. Средствами (рука Сунгурова чувствуется) предполагалось не брезговать никакими: захватив арсенал, отдать на разграбление питейные дома, чтобы народ к мятежу возбудился легче и охотней. Поговорили они, поговорили, и сразу последовало три доноса, причем один от испугавшегося ареста Сунгурова.
Следственная комиссия, брезгливо разобрав сие неопасное дело, наказания предложила легкие. Тогда государь перепоручил рассмотрение суду военному. Те по-военному и распорядились, не очень-то вникая в обстоятельства: двух четвертовать, девятерых повесить, одного расстрелять. Достаточно простора для проявления монаршей милости (Николай, очевидно, хотел показать себя в этом пустом деле): двух повелел отправить на каторгу, остальных — под надзор или рядовыми в армию. Потому что главная и единственная их вина очень точно и полно выражена проницательной следственной комиссией: «Во всех их видно расположение ума, готового прилепляться к мнениям, противным государственному порядку».
А один из осужденных вскоре написал друзьям письмо, посланное, разумеется, не по почте — ехал в Москву знакомый чиновник, — в котором слал приветы и особо благодарность тем, кто собрал по подписке деньги на неблизкую дорогу. Деньги эти лично отвозил в казармы, где осужденных держали перед этапом, студент Московского университета Николай Огарев. Упомянут был, естественно, и он. А знакомый чиновник, пользуясь превосходным и редким случаем засвидетельствовать свою преданность престолу, прямо и аккуратно привез это письмо в Москву к жандармскому окружному генералу. В результате несколько человек, в том числе и студент Николай Огарев, вызывались для первого отеческого увещевания. Генерал, распекавший и пугавший их, отозвался, впрочем, очень хорошо об Огареве, ему весьма понравился тихий молодой человек поэтически-меланхолического склада.
Как же реагировал сам Огарев на первое предупреждение, первый сигнал, возвещающий о том, как пойдет все далее в его жизни, если он будет следовать велению души и сердца, голосу своих идеалов и привязанностей, а не холодному рассудочному пониманию?
Радостью и гордостью реагировал. Этот вызов и начальственные угрозы, по словам Герцена, были «чином, посвящением, мощными шпорами». С маслом, политым на огонь, сравнил Герцен (полный тогда юношеской зависти — его не вызвали!) первое в жизни их кружка событие. Ибо все вызванные тогда к генералу давно уже были членами тесно сплоченного дружеского кружка, в котором совместные попойки (в доме Огарева, на Никитской) служили только фоном и обрамлением пристального и серьезного обсуждения всего, что совершалось на свете. Александр Герцен был умом этого кружка, Николай Огарев — душой.
Когда окружающая действительность враждебна всем вместе и каждому в отдельности, вполне понятны желание и стремление хотя бы в тесном дружеском общении говорить без оглядки и размышлять без опаски быть услышанным. Вот как писал в одном из писем Белинский: «Воспитание лишило нас религии, обстоятельства жизни (причина которых в состоянии общества) не дали нам положительного образования… с действительностью мы в ссоре и по праву ненавидим и презираем ее, как и она по праву ненавидит и презирает нас. Где же убежище нам? На необитаемом острове, которым и был наш кружок».
Здесь еще одна существенная деталь содержится — об отсутствии «положительного образования». Разве так уж оно плохо было в тогдашних российских университетах? Нет, совсем нет, вовсе не так плохо, за исключением одного пробела, жизненно важного именно в возрасте, когда мучительно необходимо составить себе полную картину мира, когда мировоззрение только складывается и вопросов не перечесть, тем более что складывается оно на основе полного неприятия рабской и удушающей родной атмосферы. Тут-то вот и хочется прежде всего почитать мыслителей и мудрецов, чтобы полной горстью зачерпнуть от мировой философии. Но для этого нужны книги (на учителей надежды мало, жалованье и боязнь прочно держат их в казенных рамках), но и с книгами была беда. Параграф сто восемьдесят шестой цензурного устава ясно и недвусмысленно обозначал один из пределов книгопечатания: «Кроме учебных логических и философских книг, необходимых для юношества, прочие сочинения сего рода, наполненные бесплодными и пагубными мудрствованиями новейших времен, вовсе печатаемы быть не должны».
Недостаточность духовной пищи не восполнялась литературой запрещенной, литературой, в изобилии ходившей в списках, литературой подземной и печать презревшей. Ибо это в основном были всяческие стихи — вольнолюбивые, богохульные, атеистические. Стихи, стихи, стихи. Высокие и прекрасные, о свободе и гуманности говорившие уму и сердцу, но все-таки это не было то «положительное образование», по которому мучительно тосковали люди, расположенные к нему. Оттого-то книги философов, падая на благодатную почву, жаждавшую посева, расцветали махровыми цветами упоенной и слепой приверженности. Белинский, к примеру, начитавшись Гегеля, пережил долгий период искренней и фанатичной уверенности, что все действительное и впрямь разумно; а, отрезвев, сам над собой подсмеивался, как он защищал российское рабство и мудрость монаршего правления.
Огарев и Герцен почти с детства жадно читали тайные списки, и общая осведомленность в литературе такого рода (Пушкин, в основном, и Рылеев) сблизила их при знакомстве едва ли не сильнее, чем благоговейная любовь к Шиллеру.
Огарев учился в университете без того упоения и захлеба, с которым учился Герцен, а потом и вовсе бросил посещать лекции. Обучаемый с семи лет посещавшими дом учителями, особенно полюбив римскую и греческую историю, в девять лет написал он по заданию учителя сочинение на вольную тему. «Письмо к мечтаемому другу» называлось оно. Он уговаривал неведомого товарища (далеко впереди была еще встреча с Герценом) наподобие героев древности пожертвовать собой для отечества. И вот странно: вырос, возмужал, казалось бы, поумнел, образовался уж во всяком случае куда более, чем тогда, двадцать лет — возраст зрелости, а то детское чувство, снедающее, жгучее, острое, в точности таким и осталось. Неясным по исполнению, тревожащим, смутным, зыбким и неотвязчивым. Как реализуется оно и как утолится, придумать он еще не мог и искренне завидовал Герцену. Тот был весь наружу — напропалую говорил любому все, что думает о России it рабстве, витийствовал с пафосом и жаром по каждому поводу, во всем участвовал и выказывал полную готовность ко всему примкнуть. Да к тому же суждения у него были четкими и определенными, что делать и чем заняться, знал он твердо — да и не только про себя, но и всем посоветовать мог убежденно, красноречиво, убедительно. А Огарев, неразлучный спутник, томился, сомневался, отмалчивался. Собирались все у Огарева в небольшой его (с детства была мила) комнате у Никитских ворот, красные обои которой с золотыми полосками, и горящий камин, и застойные облака дыма, и запах жженки, и аромат сыра (единственная и главная закуска) многим навсегда запомнились. Огарев споров не затевал, длинных монологов не произносил, склонен был скорее согласиться улыбчиво с самой крайней точкой зрения, чем запальчиво и наотмашь отмести ее. Герцен кипел, заводил, активничал и первенствовал со сладострастием, Огарев внимал, одобрял, отмалчивался. Вся компания их, весь кружок собирался тем не менее именно вокруг них обоих, потому что Герцен здесь, как уже сказано, являлся умом, а Огарев — душой и сердцем. Так смолоду повелось и до смерти так между ними осталось. Герцен понимал это прекрасно и однажды сформулировал точно, вспоминая студенческие годы: «В Огареве было то магнитное притяжение, которое образует первую стрелку кристаллизации во всякой массе беспорядочно встречающихся атомов, если только они имеют между собою сродство». О роли же Огарева в собственной своей жизни оставил он неисчислимое количество свидетельств и во множестве писем, и в воспоминаниях, и в дневнике, удостоверяющих именно сказанное выше: во-первых и в-главных, неразрывность их, а во-вторых, определяющий характер связи — именно ума и души. Так сразу после приговора (близится уже, близится обязательный и непременный срок обязательной и непременной судьбы российских самоотверженных юнцов) писал он из тюрьмы своей кузине: «Как высок и необъятно высок Огарев — этого и сказать нельзя, перед этим человеком добровольно склонил бы я голову, ежели б он не был нераздельною частью меня».