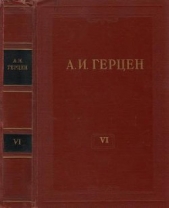С того берега
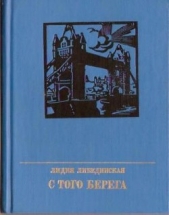
С того берега читать книгу онлайн
В жизни ушедших, и особенно ушедших давно, мы всегда ищем и находим цельность и замысел. Однако на самом деле человеческая судьба не только движется по прихотливой кривой, не только дробится на множество периодов, нередко противоречащих один другому, но даже сама кажущаяся цельность представляется разному глазу неодинаковой в зависимости от точки зрения.
Николай Платонович Огарев, незаурядный русский поэт и знаменитый революционер, не похож ни на его хрестоматийно сложившийся облик, ни на ту личность, что рисуется из статей врагов (предостаточно их было у него, как у всякого яркого человека), ни на тот сусальный, некрологически непогрешимый портрет, что проглядывает из ученых трактатов. Был он весьма разноликим, как все смертные, сложным и переменчивым. Много в нем верности и доброты, причем последнего чересчур. То и другое причиняло ему множество мелких бед и крупных несчастий, но они не только не сломили его, но даже не притупили два этих главных свойства. Верность и доброта сопутствовали ему до смерти. Что ж до цельности жизни, то на самом-то деле постоянно и неизменно испытывал он острые и глубокие терзания от естественной необходимости выбирать. И кажущаяся цельность судьбы — просто цельность натуры, всякий раз совершающей выбор, органичный душе и мировоззрению. Он никогда не лгал и делал выбор с глазами открытыми, всегда сам, кап и подобает свободному человеку, отчего и казался зачастую гибким и пластичным своим современникам, а подчас и весьма странным. Жил он в очень трудное время — но бывают ли времена легкие? Окружали его яркие и своеобычные люди. Нескольких современников его, знакомых с ним или незнакомых, нам никак не миновать, ибо нельзя восстановить облик человека вне той эпохи, в которую он жил, а эпоха — это люди, наполнявшие ее и ею наполненные. Люди, строившие свою судьбу и каждый раз делавшие свой выбор. Оттого, быть может, галерея современников часто больше говорит о человеке, нежели самое подробное описание его собственной жизни. К счастью, осталось много писем. И воспоминаний полным-полно. И архивы, где хранятся не только документы, но и труды, не увидевшие света в свое время. А что до любви к герою — сказать о ней должна сама книга.
Это книга об очень счастливом человеке. Больном эпилепсией, не раз обманувшемся в любви, об изгнаннике, более всего на свете любившем родину, человеке, который осмелился дерзнуть и добился права быть всегда самим собой.
Родился он в тринадцатом году прошлого века 24 ноября по старому стилю, в городе Санкт-Петербурге — упомянем об этом здесь, чтобы сразу же обратиться к его молодости.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Многие годы прошли с тех пор, стала известной вся жизнь Огарева, и не оказалось никакой «психологической задачи» в той безупречной моральной чистоплотности, которая последовательно пронизала все его поступки, объяснив сполна и те давние, принимавшиеся современниками за слабоволие.
Вздорность Марии Львовны заставляла ее порою взбрыкивать даже по поводу присылаемых им денег (хотя подавляющее большинство писем — это скорей записки, счета и напоминания). Но порой характер брал свое, и она его же упрекала за расточительную к ней щедрость, которая вдруг на секунду казалась ей унизительной. Он отвечал со спокойствием великодушия, академической отстраненностью тона снимая даже не ее истерику, а самую тему, недостойную их:
«Ради Бога, не оскорбляй меня сомнением в своем праве брать эти деньги. Повторяю тебе — надо стать выше этого, и когда дающий дает их так чистосердечно и с искренним желанием устранить все мелкие материальные заботы жизни, — их надо брать без угрызений совести и без благодарности, а с нежностью. Такова моя теория денежных отношений между людьми, основанная на сознании неравномерного распределения собственности в современном обществе».
Он снова пишет стихи, переезжает с места на место, ищет и не может найти себе истинного, настоящего применения. Хочет и не хочет в Россию, очень тоскует по оставшимся там, просит в письмах, чтобы ни в коем случае не убирали его стакан с дружеского стола. В это время Герцен пишет статьи и книги, входит в славу, тешится краткой иллюзией, что и в России можно послужить своей стране. Историк Грановский собирается издавать журнал, два отдела в котором непременно должен вести Огарев. На просьбу о разрешении журнала ответа долго нет, потом на прошении следует лаконическое «не нужно». А если бы он и состоялся, журнал, многое бы им удалось при их образе мыслей, при их понимании российских проблем и неотложностей?
Параграф сто шестьдесят шестой цензурного устава: «Запрещается всякое произведение словесности не только возмутительное против правительства и постановленных от него властей, но и ослабляющее должное к ним почтение».
Следующий параграф:
«А потому цензоры, при рассматривании всякого рода произведений, обязаны всевозможное обращать внимание, чтобы в них отнюдь не вкрадывалось ничего могущего ослабить чувства преданности, верности и добровольного повиновения постановлениям высочайшей власти и законам отечественным».
Еще один:
«Запрещается к печатанию всякие частных людей предположения о преобразовании каких-либо частей государственного управления или изменении прав и преимуществ… если предположения сии не одобрены еще правительством».
В прежнем, стародавнем уже уставе начала века («дней александровых прекрасное начало») была сделана знаменательная оговорка, согласно которой «скромное и благоразумное исследование всякой истины пользуется совершенною свободою». Теперь, в царствование Николая, эта оговорка касается только иностранных держав, устройство и быт которых можно все-таки, хоть и с оглядкой, обсуждать.
Ранее цензору специально и особо предписывалось толковать сомнительные места выгоднейшим для сочинителя образом (язык российский и эзопов для словесности российской — синонимы), теперь же цензору «не позволяется пропускать к напечатанию места… имеющие двоякий смысл, если один из них противен цензурным правилам».
При всем при этом цензуры в России как бы нет, она — невидимка, мистика, досужий вымысел клеветников. А для того и запрещение адмирала Шишкова ставить точки или другие знаки вместо изъятых цензурой мест.
Газетам же и журналам предписывается ясно и точно: «Рассказывать события просто, избегая, елико возможно, всяких рассуждений».
И, наконец, будто специально для историка, задумавшего журнал о российской былой и настоящей жизни, а также для друзей его, одержимых размышлениями над историей российской, щедро растолкованный запрет:
«Сочинения и статьи, относящиеся к смутным явлениям нашей истории, как-то: ко временам Пугачева, Стеньки Разина и т. п., и напоминающие общественные бедствия и внутренние страдания нашего отечества, ознаменованные буйством, восстанием и всякого рода нарушениями государственного порядка, при всей благонамеренности авторов и самих статей их, неуместны и оскорбительны для народного чувства, и оттого должны быть подвергаемы строжайшему цензурному рассмотрению и не иначе быть допускаемы в печать, как с величайшею осмотрительностъю, избегая печатания оных в периодических изданиях».
Вот вам и все, господа! А в остальном — пишите по разумению, лучше всего — в ключе, уже однажды заданном классиком: гром победы, раздавайся, веселися, храбрый Росс.
Было всюду тихо-тихо, сдержанно-сдержанно, затаенно и придушено как бы. И, ненадолго вернувшись из-за границы, чтоб официально путешествие свое продлить, писал Огарев в сорок первом: «Странное дело: я не вижу довольных лиц. Всем скучно, грустно, кому от чего; кто мучим думою, кто — обстоятельствами».
И еще одно есть его письмо приблизительно того же времени, удивительное тем, что в нем подряд названы имена, кои мы сегодня читаем с трепетом уважения и интереса. Огарев приятелей этих навестил в то смутное, неясное, заторможенное и созревающее время, о котором Герцен замечательно скажет, что было оно поразительное, полное «внешнего рабства и внутреннего освобождения». Вот это письмо об одном из вечеров в Москве:
«Что ж еще тебе сказать? Чаадаев был у меня, я был у него в понедельник… У Чаадаева никого не было, кроме Грановского, который очень грустен с тех пор, как умер Станкевич. У Чаадаева была скука невыносимая. Нет! На нашей почве не растет ни одного интереса, оттого везде скучно. Был у Боткина; не нашел я его. И хорошо! Что бы я ему сказал нового и утешительного? Все мы знаем одно и то же, то есть ничего, и болтаемся в пустоте. Об чем же говорить друг с другом?…Знаешь ли, отчего так скучно почти со всеми? Оттого, что все готовят в своей маленькой кухне и говорят про свой именно картофель, который никого не интересует».
Вот и ездит Огарев по Европе, мучительно размышляя. Наблюдаемое мало радует его, а порою просто раздражат ет. Несколько лет спустя, впервые выехав за границу, Герцен придёт в ужас от обилия спокойного, сытого, равнодушного и хладнокровного мещанства. Огарев с омерзением разглядел встреченного им обывателя высшего разряда — среди развитого, интеллектуального сословия. Познакомившись с неким достопочтенным профессором логики, с неприязнью описал он основную его душевную забаву: «Следит на себе, может ли он в какую-нибудь минуту своей жизни обойтись без какого-нибудь логического момента — и рад, что не может. Экое занятие! Факирство! Скучно, Герцен! Все фарисеи да факиры. Неужели они счастливы?»
Россиянину такие забавы, разумеется, чужды. Но найти себе служение не удается. И, мучимый тоской и неудовлетворенным чувством долга, Огарев скитается и пишет. Страдания Огарева-человека скоро составят славу Огареву-поэту, но его-то поэзия целиком захватить не может, хотя внутри непрерывно играет и переливается не слышимая никому музыка, побуждающая его время от времени даже письма писать стихами. Среди строк деловых, печальных, смутных, философских вдруг нет-нет и прорываются абзацы, зарифмованные почти машинально: «Я просто скиф: потомок дальний златой орды — скуластых рож я образ сохранил печальный, ленивый нрав и дикий вкус, взяв от славян лишь рыжий ус». Или начинает излагать свое меланхолическое состояние, но сбивается опять на стихи, и настроение — видно на глазах — меняется мгновенно к лучшему от игры этой, нехитрой, но ободряющей: «Тревожна мысль, душа в тоске, в душе какой-то жар и трепет, и смутно, будто вдалеке мне слышен рифмы тайный лепет… Хочу писать… (но в языке у нас нет больше рифм на слово эпет. Гм? Разве стрепет?.. Стрепет? Да! Да он никак нейдет сюда)».
Если несколько выше в задоре несогласия с былыми биографами Огарева преувеличена нами несколько твердокаменная спокойная его стойкость, то вполне пора бы сейчас привести и иные его письма, писанные в минуты слабости, сомнений, в поисках и жажде сочувствия. К той же Марии Львовне писано это стародавнее письмо, времени самого начала их разлада, когда не оскудела еще и не прервалась былая душевная связь. Своей слабости он не стыдится перед ней: