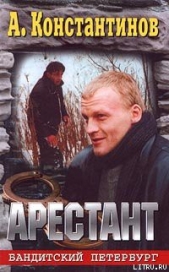Я твой бессменный арестант

Я твой бессменный арестант читать книгу онлайн
Как очевидец и участник автор воссоздал тот мир с его идеологией, криминальной структурой, подлинной языковой культурой, мелодиями и песнями, сделав все возможное, чтобы повествование представляло правдивое и бескомпромиссное художественное изображение жизни ДПР.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Трудно было противиться мощному влечению к сильным. Казалось бы, естественная неприязнь правителей к неверным и слабым должна была порождать сходный отклик. Однако этого не происходило. Во всяком случае, он не оформлялся в виде каких-то четких мыслей или направленных действий, а возможно, я даже про себя боялся плохо думать о вожаках, — страх подавлял разум. Для ненависти нужны силы.
Померк блеск детских глазенок, закатилось солнышко, спряталось на всю нашу долгую северную зиму. Навалились серые мучительные дни и черные, без единого проблеска, ледяные ночи. Сугробы намело почти до окон, веранда скрылась под снегом. Убеленная снежным саваном равнина, однообразная и неподвижная, сливалась у горизонта с мглистым сереньким небом. Однообразные и неподвижные стыли мгновения, их медлительный шелест был почти ощутим. Только за окно смотрел я без боязни встретить удрученный взгляд товарища по несчастью или, что еще хуже, злой прищур повелительного вожака.
9
Картошка
Я люблю тихо сидеть на кухне и чистить картошку. Отступают тревоги и заботы, неторопливые движения пальцев успокаивают возбужденный мозг. Мир сужается и упрощается до примитивности клубня. Тонкой змейкой ползет бледная кожура, я выковыриваю глазки, и иной раз мне попадаются сгнившие, высохшие до серого пепла вкрапления, и вспоминается сводящий с ума душок наполовину сожженных клубней, целиком состоящих из такого вот спрессованного праха. Этот душок доводил до острой, нестерпимой боли в пустом желудке.
В доме непроглядная темень, — электростанция выдохлась. Жизнь теплилась у золотого зева печки. Отсветы пламени выхватывали неподвижные тени с озаренными огнем красноватыми лицами. Свежий запах поленьев примешивался к тяжелому настою махорочного дыма. Когда дверцу топки прикрывали, искорка цигарки сверкала во мраке звериным оком в ночном лесу.
Позванивая кочергой о колосники, Никола выгребал из топки поспелые гнилушки. Они дымили угарным чадком и были почти неотличимы от гаснувших углей. Никола разламывал их, наполняя комнату парным ароматом пахучей плоти, ароматом жизни и тления, и поощрял огрызками своих приспешников и особо усердных клиентов. Счастливцы посасывали запеченный пепел до полного растворения во рту. И тихая радость нисходила к нам. Казалось, нет ничего вкуснее горелой кожуры. Она сытнее, чем мякоть. И не раздумывалось о том, что картошку эту выменяли на базаре на наши пайки.
Картошка — жизнь моя! Тлеющий фитилек моей души выпестован тобой. Ты взрастила нас и вместе с нами невиданные чудеса нашего времени. В тебе наша сила и слабость, порядок и хаос, праздник и повседневность. Поразительно щедра животворящая мощь неприметного клубня! За фанфарами и похоронками, славословием и суесловием всегда царили земляные картофельные будни с эпохальными прожектами, погрязшими в топкой борозде. От этого никуда не уйти. Картофельную аскетичность не преодолеть. Не уловить, не понять, что проглядывает за хлебно-картофельной сытостью, прущей с налитых с молоду лиц? Всегда и везде «картофка, да картофка, да картофны пироги»!
— Картошечки хочется, — нудил брат, не желая засыпать голодным и не ведая о моих передрягах.
— Она не наша, — нашептывал я. — Терпи, старайся заснуть. Проснешься, будет завтрак.
— Сейчас хочу. Почему у них есть картошка, а у нас нет?
— Смотри, все спят. Закрывай глаза.
— Когда маму выпустят из тюрьмы?
— Скоро.
— Завтра?
— Нет, не завтра.
— Через много, много дней?
— Да, через много, много дней.
— Через сколько?
— Не знаю, спи.
— В детдоме дадут картошки? Хоть одну, малюсенькую-премалюсенькую?
— Отстань, а то набью!
— За что?
— За то! Не думай о еде, станет легче.
— Попроси картошечки, — брат обиженно поджал дрожащую верхнюю губу и выпятил нижнюю, готовясь заплакать.
— Крепись, — одернул я брата. — Слезы не помогут.
Нужно думать о другом, — убеждал я себя, но мысли о завтрашнем дне, когда сам, своими руками отдам свою кровную пайку, неодолимы. Видимо придется всегда засыпать с выжигающим нутро голодом.
С мамой было так хорошо! Воспоминания приносили новую боль. Прошлое казалось погребенным глубоко, глубоко под грузом многих лет. Туда, в невозвратную даль меня все чаще сносила память, хранившая такое, о чем я даже не подозревал.
Мама редко ласкала нас, но, приходя поздно с работы, опускалась на колени перед заснувшим братом, прижималась губами к его щеке и стриженым волосенкам, целовала бережно, боясь разбудить. Какие мама готовила супы из картошки! Сварит, покапает рыбьего жира, прописанного нам врачем, и плавают на поверхности янтарные крапинки и суп не кажется постным.
Воспоминания доконают меня. Нужно спать.
Нас уплотняли и уплотняли. К Новому Году наплыв детей превзошел все мыслимые нормы. Нас укладывали спать по трое на койке. В группах на ночь ставили матерчатые раскладушки. Одинокими песчинками несло к нам нечаянно выживших детей, извергнутых пастью кровавой мясорубки.
Каждый новый сосед по столу уменьшал шансы вырваться из приемика. Но об этом не думалось. Все воспринималось как оно есть, без ропота, с робкой надеждой. К окошку не пробиться, — вот что заботило, вот что было понятно.
Кто-то из малышей накапал начальнице о ежевечернем буйстве. Предъявил раскровавленный нос, поплакался о том, что мешают спать. Охрану мелюзги вменили в обязанность Марухе. Угрозой увольнения и выселения ее обязали не пускать никого к малолеткам. Нас, ребят из старшей группы, прогнали в мужскую спальню, насквозь продуваемую всеми ветрами. Пронзительный холод властвовал здесь безраздельно, легко проникал сквозь закупоренные окна, шутя одолевал жалкие волны тепла, исходящие от печки.
Вечера надвигались как пытки. Разгулье дымилось здесь допоздна, как в полночном шалмане, и первые недели в теплой спальне казались теперь вполне сносными.
Моим соседом по постели стал Царь. Наша койка стояла у открытого стенного проема, выходящего в прихожую. Койка была не на месте, на нее натыкались и входящие, и выходяшие. Выпуклости свалявшегося ватного матраса торчали сквозь широкие дыры гамака пружинной сетки, уцелевшей едва ли наполовину. По этой причине нам не подселили третьего.
Царь орошал по ночам постель. Он очень деликатно жался к самому краю койки, но подтекало и под меня. И неожиданно, без внятных причин, эта беда пристала и ко мне. Вскоре недуг ночного недержания, как эпидемия, охватил добрую половину ребят. Прудил под себя и Горбатый, и спавший с ним Педя.
К утру спальня выстывала так сильно, что корочка льда схватывала потеки на полу под койками. Мы скрючивались улитками, поджимали колени к подбородкам, натягивали на уши тонкие байковые одеяльца, а ночью скатывались в объятия друг другу. Проснувшись, не разбирали, кто подпустил?
Хорошо, что спим врозь, — думал я о брате. Не хватало и ему этой напасти!
Днем Горбатый и Педя меняли свою измоченную постель на сухую с любой койки. Со временем все матрасы задубели и отличались лишь различной степенью влажности. От них разило мертвящим, выедающим глаза и ноздри зловонием. Желтые, не менее вонючие простыни были жестки как накрахмаленные.
Отменная вонь спальни хлестала по носу входящего, и воспитатели не любили здесь задерживаться. Понаблюдают за укладыванием или пробуждением, хлебанут глоток, другой густых, почти осязаемых ароматов непросохших постелей и смердящих испарений параши и, придерживая дыхание и прикрывая лица, уматывают поскорее.
— Во душегубка! — гримасничал Горбатый — Аж рыла воротят!
Принюхавшись, мы не испытывали страдательных эмоций. К тому же пацаны курили до тошноты, и табачный дым отчасти перебивал неистребимый настой закисающей мочи. Словом, отнюхай свое и молчи, спи; зябнуть и мокнуть во сне не так мучительно, как наяву.
Писунов развелось во множестве, а скопом к чему не притерпишься! И особых душевных переживаний ночной грешок не доставлял. Мочишься ты или нет, сидят твои родители или погибли в бою, огрубелая и жестокая у тебя душа или впечатлительная и ранимая, — никого не волновало. Мы предстали друг перед другом душевно обнаженными, лишенными поддержки домашнего мира с его ежедневной мерой хорошего и плохого, горестного и радостного.