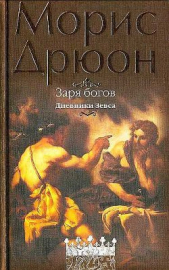Заря приходит из небесных глубин

Заря приходит из небесных глубин читать книгу онлайн
Этот человек родился не зря и прожил долгую и чрезвычайно интересную жизнь. Он писал о себе: «Я родился в одном мире, исчезну в другом, совсем на него не похожем, а читать меня будут в третьем, тоже изменившемся».
Морис Дрюон прожил более 90 лет. Его семейное древо раскинуло ветви не только во Франции, но и во Фландрии, Бразилии и России.
При жизни он был окружен людьми, которые изо всех сил старались отыскать смысл жизни. Судьба приводила его на многие перекрестки Истории. Дрюон жил вместе со своим веком. Он наблюдал чудеса, подвиги и потрясения своего времени не только с восторгом, но и с тревогой.
От Мориса Дрюона, подарившего нам сагу «Проклятые короли».
Впервые на русском языке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Фото попалось мне на глаза почти шестьдесят лет спустя, в пачке бумаг, которую я получил по смерти Жозефа Кесселя, словно он назначал меня хранителем этих хрупких обломков.
Банальные архивы отрочества: школьные тетрадки, несколько черновиков — стихов или трагедий в подражание Гюго; несколько глав романа без названия, начала и конца; также несколько карандашных набросков, в которых чувствуется неплохая рука; два письма с каникул последнему преподавателю французского с перечислением того, что читает. Восторгается «Красным и черным» Стендаля, Мопассаном, называет посредственной «Жестокую загадку» Поля Бурже.
А также жалуется на отца, который требовал от него получить степень бакалавра до поступления в Консерваторию. Они с братом отшагали три километра, чтобы рукоплескать своему кумиру, трагику Полю Муне, который выступал в Довиле, и весь обратный путь вдоль пляжа декламировали стихи.
Несколько торопливых записей на листках в клеточку, вырванных из классных тетрадей, свидетельствуют о какой-то смуте в душе.
То он говорит, что у него чувство, будто сходит с ума, и решает потребовать от отца, чтобы тот забрал его из лицея и поместил в сумасшедший дом, потому что его преследуют навязчивые идеи насчет реальности внешнего мира. То объявляет, что через восемь дней его уже не будет в этом мире. Хочет выкрасть револьвер из тумбочки родителей и застрелиться в какой-нибудь улочке, или рядом с железной дорогой, или в полях. Но что станет с его «я»? Он рассматривает все возможности потустороннего. «Окажется ли это миром других представлений? Больше ли там страданий или меньше? Или же это полное уничтожение, как утверждают материалисты? Или ап и рай верующих?» А потом, недоумевая, кой черт дернул его писать все эти «бредни», заявляет: «Может, я и не убью себя в ближайшее воскресенье». Ему было, наверное, шестнадцать лет. Но какой же мало-мальски мыслящий подросток не проходил через период метафизических сомнений? Или же в этом ускользнувшем от времени свидетельстве надо видеть настоящую предрасположенность к самоубийству?
В 1917 году он еще подписывает свой ангажемент у Режан как «Л. Кессель» — маленькая роль в пьесе «Госпожа Бесцеремонность», восемь франков за вечер. Сибер продержатся там только три года, пока учился драматическому искусству.
В Консерватории его упрекали за недостаток усердия, но он закончил ее с первой наградой по драме и комедии, сыграв сцену из «Рюи Бласа» и удостоившись аплодисментов жюри (во главе с академиком Марселем Прево), которому вообще-то аплодировать не полагалось.
Театр, театральные события значили тогда гораздо больше, чем сегодня; они оправдывали даже существование особой ежедневной газеты «Комедия». Пресса уделила большое внимание этому триумфу. Администратор «Комеди Франсез» немедленно ангажировал молодого Сибера, которому предстояло дебютировать в «Одеоне». Пресловутый де Макс, принц актеров-кривляк, даже сказал ему (вполне театрально): «После тебя я уже никогда не смогу играть Гамлета!» Можно ли вообразить себе более прекрасное начало карьеры?
Два месяца спустя в маленькой гостинице Латинского квартала он пустил себе пулю в сердце.
Газеты снова предоставили ему свои колонки. Для всех этот конец казался необъяснимым. Одни сообщали, что за несколько часов до самоубийства молодой актер позаимствовал у друга двести франков и купил себе револьвер. Другие, морализаторы, во всем винили неврастению, в которой молодежь погрязла после войны, и писали даже, что эта смерть стала дурным примером. Очень консервативная «Журналь де деба» доброго г-на де Налеша опубликовала весьма достойную статью, сопроводив ее соболезнованиями, тоже весьма достойными. Но наилучший заголовок дала, конечно, «Юманите»: «Самоубийство Рюи Бласа». А дальше — снова тишина.
Моя мать, разумеется, нашла в этой драме повод возвысить свою трагическую роль — безутешной жертвы великой разбитой страсти. И возложила вину на семью Кесселей: на старшего брата, не оказавшего поддержки младшему, и на родителей, которые были к ней так холодны, что довели своего сына до отчаяния. Она решила забыть, что эта возвышенная любовь уже подходила к концу, что любовник не жил с ней уже несколько месяцев и не хранил никакой верности. Его смерть подарила ей рану, которая долгие, очень долгие годы возвеличивала ее судьбу.
Посюстороннее порой подает нам странные знаки. Помню, как после поражения 1940 года я встретил у друзей в Аженэ одну очень красивую женщину, сбежавшую из Парижа, — едва сорока лет, стройную и очень обаятельную. Прекрасные черты, прекрасный, чуть глуховатый голос, что лишь добавляло ей очарования; благородство в манере держать себя и никакого жеманства. Она была русского происхождения.
Во время долгой прогулки, которую мы совершили на природе, самым естественным образом согласовывая наш шаг, она дала мне понять, сдержанно, почти намеками, что была не то любовницей, не то невестой красавца Сибера, то ли до, то ли после его отдаления от моей матери.
Из ее слов можно было заключить, что они намеревались пожениться. В любом случае, она хранила в сердце светлое воспоминание и боль от разбитой надежды. Глядя на меня, говоря со мной, она воскрешала прошлое.
Я никогда больше не видел эту женщину; но она тронула меня за душу, и я никогда ее не забывал.
У каждого своя правда…
Кессели, в свою очередь, считали, что именно моя мать сыграла тут роковую роль, и, быть может, не совсем ошибались.
Всякое самоубийство ставит перед живыми вопросы столь же мучительные, сколь и напрасные.
Разумеется, на протяжении всего моего детства от меня скрывали, каким образом умер этот родитель, у которого было только имя. Мне говорили, что его унесла эпидемия испанского гриппа. Но моя мать слишком долго тянула с этой тайной. Рано или поздно она бы все равно открылась. Когда правда настигла меня — случайно, внезапно, а как именно, еще расскажу, — мне было около восемнадцати лет. Не лучший возраст, чтобы узнать, что передавший вам жизнь положил конец своей собственной.
Это оставило в моей душе рану, которую излечила только война, то есть непосредственная опасность смерти. Но тогда я был уже старше, чем тот, кто меня породил.
Характер, как и тело, вырабатывает свои средства защиты. И люди, влачащие, словно свой крест, мало для кого тайное самоубийство отца или матери, склонны тут, думаю, к некоторой снисходительности, поскольку видят в нем оправдание своих ошибок или неудач.
Но сколько неразрешимых вопросов я задал себе в эти несколько лет! Зачем было убивать себя на пороге славы? Из-за уверенности, что уже ничто и никогда не будет столь же прекрасным, или не желая, чтобы стало хуже? Из-за какого потрясения появилась трещина в хрустале?
Предсмертная записка, которую оставил этот романтический герой, не дает никакого ответа.
Странное послание, всего в одну страничку, адресованное «Тем, кто меня любит, если они действительно меня любят, а не считают, будто любят» и написанное не обычным его почерком, а необъяснимо непохожим, словно кто-то другой, проникнув в него, водил его рукой.
«Когда вы узнаете, ничуть не печальтесь. Поскольку эти последние минуты — первые минуты моей жизни,когда я познал наконец успокоение и счастье, глубокие, огромные и абсолютные. Поверьте, эти несколько мгновений совершенной радости и безопасности стоят, в своей краткости, целой жизни, если это жизнь беспрестанно терзаемого страхами, распинаемого каждым мигом мученика нервов. Так что — ни слезинки. Но радость, великая, полная и бесконечная радость возносит меня сейчас, подобно широкой волне… Это тем, кто любит меня ради меня, а не ради самих себя».
И он подписался снова: «Лазарь».
Такая экзальтация, такой восторг перед смертью разверзают бездны для мысли. Он умер не от отчаяния, не от упоения славой… Просто был «хороший день, чтобы умереть…». Это была смерть человека, спешившего покончить со страхом жить, а стало быть, и страхом умереть… В патологии это называется «тревожный раптус». [8]