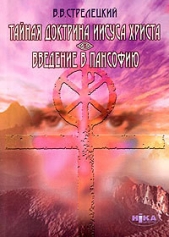Даниил Андреев - Рыцарь Розы
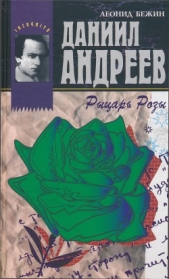
Даниил Андреев - Рыцарь Розы читать книгу онлайн
Эта книга благодаря собранным по крупицам свидетельствам современников и документам позволяет восполнить пробелы в сведениях о жизни и творчестве великого русского мистика Даниила Андреева и воскресить его во многом автобиографичный роман «Странники ночи».
Увлекательное исследование Леонида Бежина адресовано самому широкому кругу почитателей творчества Даниила Андреева.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Была ли в доме мистика — не условно — литературная, в духе Белого, Блока и Леонида Андреева, а подлинная, основанная на внутреннем опыте, на сокровенных духовных переживаниях? На этот вопрос мне не ответили ни Вадим Андреевич, ни Валентина Гурьевна: им было вполне достаточно мистики тогдашней жизни, мистики кошмара и абсурда тридцатых годов, мистики тех двойственных определений — вот и обещанная разгадка! — которые распространялись и на облик человека, и на характер общества, и на уклад жизни в целом. И точно так же, как лагерь был стройкой, а стройка лагерем, монастырь (Соловки) тюрьмой, а тюрьма для таких, как Даниил Андреев, — монастырем, смелость соединялась с опасливостью, героизм с рабством, энтузиазм с тупым автоматизмом, и наоборот — автоматизм с энтузиазмом, рабство с героизмом, опасливость со смелостью.
Это и порождало странную, причудливую, гротескную мистику, сквозящую в некоторых рассказах Валентины Гурьевны. К примеру, как она донимала одного из знакомых (нелишне уточнить: второго мужа подруги Шуры) тем, что, догоняя его на улице Горького, шептала ужасные вещи о Сталине. А он, словно ужаленный, пригибал голову, оглядывался, озирался: не слышал ли кто, часом? Или, скажем, как овдовела хозяйка, у которой некоторое время снимали квартиру на Малой Лубянке (в «Щелочке» — как называли между собой эту узенькую улочку, прилегавшую к каменной громаде НКВД): они гуляли в лесу с любимым мужем, испытанным сотрудником органов. И вот как бы в шутку воспроизводя знакомую ему по службе ситуацию, он велит ей: «Ты беги, а я буду стрелять». Она — бежит, он — стреляет. Она — в шутку же! — возьми и упади. А он — всерьез! — возьми и застрелись.
После такой мистики у Валентины Гурьевны и Вадима Андреевича не оставалось никакого желания замечать другую — ту, из‑за которой можно было и в лагерях побывать. Поэтому для меня особенно символично, что заметили иную, сокровенную мистику именно побывавшие — Алла Александровна Андреева и Виктор Михайлович Василенко (их арестовали по одному делу с Даниилом Андреевым).
Глава шестнадцатая
КОВАЛЕНСКИЙ
Вот и настало время назвать имя загадочного персонажа, к появлению которого я так долго готовил читателя. Иными словами, третьего человека, жившего в доме Добровых, хотя с ним мне встречаться не довелось, — Александра Викторовича Коваленского. Да, того самого, Вишу, как прозвали его в доме Добровых (у Даниила было прозвище — Брюшон), поэта, переводчика, троюродного брата Блока, женатого на Шуре, дочери Филиппа Александровича и Елизаветы Михайловны («Шуре, говорившей басом», как определила ее Валентина Гурьевна): «вокруг порхало два пухлогубых «зефирика», Лиза и Саша, дети В. М.». Один из «зефириков» — будущий Александр Викторович, с чьим отцом, Виктором Михайловичем, приват — доцентом по кафедре механики Московского университета, и дружил Андрей Белый, автор цитируемых воспоминаний. Таким образом, Коваленский- младший как бы уже обозначен, назван, литературно рожден — он присутствует среди великого множества персонажей мемуарных томов Белого. Но какая судьба уготована пухлогубому «зефирику» — этого Белый предвидеть не мог.
Александр Викторович не только побывал и заметил, — судя по всему, он сам был настоящий мистик. Об этом мало кто догадывался даже из близких ему людей, во всяком случае, в тот период, когда он, потерявший жену и большую часть из всего им написанного (кануло в архивах Лубянки), освободился из заключения и доживал свой век одиноким, непризнанным, надменным и неприступным поэтом — поэтом без книг, вышагивавшим с тростью по тропинкам писательской Малеевки. С помощью Вадима Андреевича я пытался разузнать о Коваленском, по моей просьбе он звонил людям, косвенно близким… так сказать, вращавшимся около… имевшим некоторое отношение. Но у меня осталось досадливое чувство, что их интересовал лишь вопрос, как повыгоднее (в валюте) распорядиться уцелевшими рукописями, ни Вадиму Андреевичу, ни тем более мне их даже не показали.
О предполагаемом же мистицизме было заявлено: нет, и не пахло. Сам Вадим Андреевич охарактеризовал Коваленского как человека излишне рационального, рассудочного, по его выражению, механического. К тому же сухого и язвительного, что называется неприятного. Мне сейчас нетрудно догадаться, почему у Вадима Андреевича сложилось такое впечатление, вернее он сам его сложил, словно кирпичную стенку, чтобы ею отгородиться и за ней спрятаться: Коваленскому он был, конечно же, чужд. Коваленский воспринимал его как одного из литературной братии с Тверского бульвара — да, всех этих Приблудных, Рукавишниковых, Хориковых, которые басили, гудели, рыкали, — иными словами, примитивно советских. Кроме того, Вадим Андреевич всегда был бодр, оптимистичен, открыт и победоносно прост, а Коваленский — затаенно сложен. Заложив руки за спину, Вадим Андреевич напевал при ходьбе: «Трум — туру — рум», а Коваленский мог на это только саркастически усмехнуться. Поэтому он не отказывал себе в удовольствии слегка задеть, уколоть, царапнуть, и стрелы его язвительности не щадили гостя, приходившего в дом вместе с Даниилом, и гость, спасаясь от них, невольно складывал свою защитную стенку.
Но есть и иные портреты Александра Викторовича. Вот как сравнивает его и Даниила сын их близких друзей: «Я, родившийся в 1937–м, мальчиком часто видел Андреева в нашей квартире на Никольской и всегда чувствовал, что это особенный человек, постоянно общавшийся с потусторонним миром — его мирская оболочка была хрупким сосудом мистического сосредоточения. Таким же человеком — сосудом Грааля — был и Коваленский. Но Коваленский, в отличие от восторженного, увлекающегося Даниила Леонидовича, был врожденный большой барин, чуть ироничный, чуть лукавый, он обо всем вспоминал с полуулыбкой. Его революция застала эстетом — денди, блестящим богатым молодым помещиком, одним из первых дореволюционных московских автомобилистов, и человеком, посвященным с детства в высшие мистические тайны».
И Алла Александровна, жившая с ним в одном доме, конечно, знала, что скрывалось за его надменностью, язвительностью, сухостью и неприступностью (все эти свойства она имела возможность испытать на себе). По ее словам, поэмы Коваленского, которым подчас не хватало законченности и завершенности, такие, как «Корни века» и «Химеры», были овеяны неким мистически — провиденциальным духом. Они словно бы предсказывали «Железную мистерию», эти ранние, довоенные поэмы, написанные до ареста и заключения, хотя в позднем творчестве Александр Викторович часто старался плыть по течению и даже подгребать к берегу, где зазывно посверкивали огоньки официального признания, хвалебных статей в газетах, премий и проч., и проч.
В письме из лагеря во Владимирскую тюрьму Алла Александровна между прочим, с милой непосредственностью сообщала, что в лагерной многотиражке были напечатаны два стихотворения Коваленского — «Открытое письмо мистеру Даллесу» и «Первое мая». Она даже обнаруживала в них какие‑то достоинства, никак не выражая своего отношения к тому, что это стихи дежурные, проходные, написанные к дате. Такие, какие писали Приблудные, Рукавишниковы и Хо- риковы. И вот ответ Даниила Андреева: «Сообщение о Бише меня потрясло. Несколько дней я был сам не свой. Что он должен был пережить, чтобы сломаться так ужасно, так бесславно! Поскальзывался‑то он уже несколько раз (дочь академика и т. п.) но так упасть!..»
Поясним: «Дочь академика» — неоконченная повесть Коваленского, которую он писал во время войны, связывая с ней надежды на публикацию и тоже робко подгребая, стараясь приспособиться, подладиться под официально принятый тон.
Но не он один, не он один… другие не только робко подгребали, но и карабкались на берег по скользким камням, расталкивая друг друга, для Коваленского же все это было холодной игрой ума, осуществлением некоей рационалистической программы, способом самозащиты. Если Даниила в юности влекла идея духовного самоубийства (об этом еще будет сказано), то Коваленским, его другом и наставником, наученным горьким опытом тюрьмы, возможно, овладела под старость фантастическая идея или, лучше сказать, химера духовного выживания. При этом Коваленский оставался мистиком от природы, во всяком случае в ранний период, в те годы, когда они были особенно дружны с Даниилом.