Горький
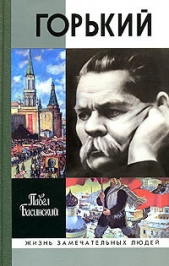
Горький читать книгу онлайн
Известный критик Павел Басинский предпринял единственную за последние десятилетия попытку воссоздать целостное жизнеописание Максима Горького (1868–1936). Жизнь выдающегося русского писателя, мыслителя, политического деятеля и по сей день полна тайн и вопросов. Какие идеи питали Алексея Пешкова на пути к Максиму Горькому? Почему он стрелялся? В чем разгадка его стремительной и шумной славы, какой не знали при жизни ни Достоевский, ни Л. Толстой? Почему «буревестник революции» уехал из страны победившей революции? Зачем медлил с возвращением? Какова роль «железной женщины» Марии Будберг в его судьбе? При каких обстоятельствах погиб сын писателя и умер он сам?.. На основании ранее неизвестных материалов и документов автор не только восполняет опущенные звенья по-советски мифологизированной биографии писателя, но также представляет Горького как провозвестника и создателя новой, революционной, религии — религии Человека, показывает его во взаимоотношениях с самыми «знаковыми» людьми своего времени — Львом Толстым, Иоанном Кронштадтским, Владимиром Лениным, Иосифом Сталиным, другими. Содержание книги, дополненное к тому же никогда прежде не публиковавшимся фотоматериалом, без сомнения, вызовет большой читательский интерес.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Груздев правильно понял Горького. Горький так настойчиво указывал ему на исследования Галанта, что, в конце концов, биограф решил успокоить его: «Дорогой Алексей Максимович, сколь Вы не устрашены доктором Галантом, все же, думаю, не в такой мере, как я — тем, что поставили меня рядом с ним. Я обомлел, когда прочел Ваше письмо! Но поделом! Довела-таки меня жадность до конфуза! Хотя жаден я не так, как Галант, а по-иному. Галант охотится за хвастливенькими, худосочными выводами, — мне нужны честные, как столб, факты».
Под «жадностью» Илья Груздев имел в виду свою дотошность, с которой он, как биограф, старался проследить реальную связь между Горьким настоящим и вымышленным. Осторожно, тактично он выспрашивал его в письмах в Сорренто о живых людях, которые стали персонажами его творчества, и о нем самом, а кроме того проводил параллельно собственные разыскания, порой удивляя самого Горького неожиданными биографическими фактами, о которых тот забыл или не хотел вспоминать. Галант же исходил из априорного убеждения, что Горький в юности страдал психическим заболеванием. И даже не одним, но целым «букетом». С наивностью истового ученого медика он сообщил этот «факт» Горькому, написав: «Я считаю эту мою идею гениальной».
Но Горький не хотел так считать. Тем более перед возвращением в СССР, где советский народ и «лично товарищ Сталин» ждали не человека, когда-то излечившегося от психопатологии, а «инженера человеческих душ» (впрочем, это более позднее сталинское определение). Да и по правде сказать, версия Галанта, как и книга Шайкевича, была столь же скучна, сколь фрейдистские «изыскания» вокруг носа Гоголя.
Кое-что из своих «открытий» о Горьком Галант все-таки опубликовал в необычном периодическом издании «Клинический архив гениальности и одаренности (эвропатологии)», выходившем в 1920-е годы под редакцией Г. В. Сегалина в Ленинграде. Одна из его статей называлась «К суицидомании Горького».
Вывод статьи не блистал оригинальностью: «Горький до того часто говорит в своих рассказах о самоубийстве и заставляет так часто своих героев покушаться на самоубийство <…>, что можно говорить о „литературной суицидомании“ Горького».
Кто спорит? В творчестве Горького, особенно раннем, очевидный избыток самоубийц. Начнем с самоубийства Сокола, приветствуемого автором, в отличие от «мудрости» Ужа. А разве не убивает себя Данко, пусть и ради людей? Кончает с собой силач и красавец Коновалов. Илья Лунев в романе «Трое» разбивает себе голову о стену. Вешается на пустыре возле ночлежки Актер. Суицидальный список можно продолжать.
«Влекло меня тогда к людям „со странностями“, — писал Горький Илье Груздеву, вспоминая жизнь в Казани. А что может быть „страннее“ человека, решившего добровольно умереть?»
Отношение к самоубийцам зрелого Горького резко отрицательное. Причем отрицательное до безжалостности. На самоубийство Маяковского он отозвался почти презрительно: «Нашел время». Смерть Есенина более тронула его, всколыхнув воспоминания о поэте. Илья Груздев с ужасом, смешанным с восторгом, писал Горькому о том, как погиб Есенин:
«Есенин в гробу был изумителен. Детское, страдальческое лицо, искривленные губы и чуть сведенные брови. И, странно, куда делась его внешность рязанского мальчика с примесью потасканного альфонса. Вместо этого он напомнил мне итальянца времен Возрождения. Какой благородный профиль, какие красивые руки! Это впечатление дня незабываемое на всю жизнь…
А знаете, как он повесился? Обмотал вокруг шеи веревку и другой конец взял в руку, рукой зацепившись за трубу отопления. Малейшая слабость, и он выпустил бы из руки веревку и сорвался. Но он выдержал и удавил себя».
Интересно, что Горький к подобному способу самоубийства отнесся с недоверием знатока.
«То, что Вы сообщили о Есенине, и поразило меня и еще более цветисто окрасило его в моих глазах. Это — редкий случай спокойной ярости, с коей — иногда — воля человека к самоуничтожению борется с инстинктом жизни и преодолевает его.
Едва ли я страдал когда-либо и страдаю ныне „суицидоманией“ — влечением к самоубийству — как это утверждает д-р И. Б. Галант (опять Галант! — П. Б.) у вас, в „Клиническом архиве“, но было время, когда я весьма интересовался вопросом о самоубийстве и собирал описания наиболее характерных случаев такового. В 97-м году, в Лионе, некий портной устроил в подвале у себя гильотину с зеркалом, чтоб видеть, как нож ее отрежет голову ему. Он это видел, как заключили доктора. В 94-м Кромулин, студент Новороссийского университета, снял с койки матрас, поставил под койку три зажженных свечи и решал сложное математическое вычисление, в то время, как огонь жег ему спинные позвонки и жарил мозг в них. Через 27 минут он уже не мог решать вычисление, а затем — умер. Фактов такого порядка немало, но они, на мой взгляд, имеют характер „исследовательский“, как бы пародируют „научное любопытство“. Случая, подобного Есенинскому, — не помню. Нет ничего легче, как убить себя „сразу“, вовсе не трудно уморить себя голодом, но уничтожить себя так, как это, по Вашим словам, сделано Есениным, — потребна туго натянутая и несокрушимая воля».
Это слова знатока суицида. Но это говорит лишь о том, что вопрос о добровольном уходе из жизни сильно волновал Горького, как один из центральных вопросов вообще. Еще не зная философии Фридриха Ницше, он в раннем творчестве испытывал человека на прочность по ницшеанскому принципу: «Если жизнь тебе не удалась, может быть, тебе удастся смерть?» Но сам Горький, даже ранний, знал наверняка: ему смерть как раз не удалась. Так, может быть, возможно, спрашивал он себя, все-таки удастся жизнь?
Что? Где? Когда?
Что представлял собой город Казань в 1887 году?
Сильно ошибется тот, кто попытается выяснить это из художественной прозы Горького. Повесть «Мои университеты», хотя и привязана точно к месту и времени, к реальным людям и событиям, является своего рода лирическим дневником. Да еще и написанным спустя более чем четверть столетия после событий. Казань вспоминалась Горькому сквозь призму юношеских страданий, памяти о тяжелом физическом труде в пекарнях, на погрузке и разгрузке барж на Волге, хроническом недосыпании, «обидном» отношении к нему и «хозяев», вроде булочника Семенова, и людей образованных, рыцарей просвещения или революции, которые взирали на него как на самородка, на интересный, но «казусный» человеческий материал. А он не был материалом!
И наконец, Пешкова интересовал не городской ландшафт и уж тем более не парадная сторона казанской жизни, но «человеки» или «люди со странностями». А таковые обычно обитают не там, где живут сытые, благополучные.
В 1884–1888 годах Пешков жил в одном из старейших и красивейших городов европейско-азиатской России, в одном из научных и культурных ее центров, с богатейшей торговлей, промышленностью, с интереснейшими традициями — духовными, купеческими, студенческими, русскими и татарскими, — городе чрезвычайно «пестром» этнически и религиозно. И всё это Пешков видел. Но почти ничего этого Горький не заметил. Таков был его угол зрения.
Богатое разнообразие казанской жизни мало отражено в «Моих университетах». Только взятые в совокупности все горьковские произведения, условно говоря, «казанского цикла» дают нам некоторое представление об этом богатстве. В «Моих университетах» это можно почувствовать «между строк». Вот похороны девицы Латышевой. Ведь какая, если задуматься, почти шекспировская трагедия! Впрочем, это материал не для Шекспира, а, разумеется, для А. Н. Островского. Попытаемся вообразить ее отца, богатого торговца чаем и «колониальным товаром». Возможно, это тот самый «хозяин», который нанял артель грузчиков, когда его баржа села на мель на Волге. На барже был как раз «колониальный товар» из Персии, из восточных стран. Алексей принимал участие в перегрузке его с баржи на другую и был впечатлен поэзией коллективного труда. Это одно из немногих мест в «Моих университетах», где автора-героя отпускает тяжелое, давящее чувство несправедливости бытия.


























