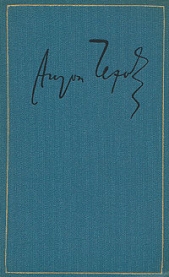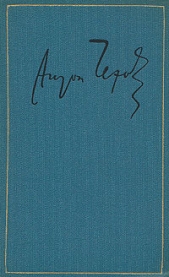«Девочка, катящая серсо...»
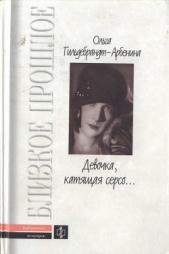
«Девочка, катящая серсо...» читать книгу онлайн
Ольга Николаевна Гильдебрандт-Арбенина (1897/98–1980) до недавнего времени была известна как муза и возлюбленная H. Гумилёва и О. Мандельштама, как адресат стихотворных посвящений поэтов серебряного века… Однако «Сильфида», «Психея», «тихая очаровательница северной столицы», красавица, актриса, которую Гумилёв назвал «царь-ребенок», прежде всего была необычайно интересным художником. Литературное же наследие Ольги Гильдебрандт впервые собрано под обложкой этой книги. Это воспоминания о «театральных» предках, о семье, детстве и юности, о художниках и, наконец, о литературно-артистической среде Петербурга-Петрограда второй половины 1910-х — начала 1920-х годов и ее знаменитых представителях: Гумилёве, Мандельштаме, Блоке, Кузмине, Мейерхольде, Юркуне, Глебовой-Судейкиной, о доме Каннегисеров… Часть текстов публикуется впервые. Содержание книги дополняет богатый иллюстративный материал, включающий не только портреты и фотографии героев воспоминаний, но и репродукции акварелей Ольги Гильдебрандт.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Думаю, что и я была не в «его стиле». Вряд ли я могла войти в его труппу и исполнять, как кукла, его выдумки. У меня бы не вышло. Но я хочу вспомнить весну 1937 г., когда мы были в Москве. Шел разговор о том, что Зинаида Райх выбегает на балкон (ул. Горького) и кричит ночью: «меня убивают!» — Юрий Иванович решил, что это постановка Мейерхольда: З. Райх на генеральной репетиции какой-то пьесы, когда кто-то из «главков» не одобрил ее (и Мейерхольда) за слишком юную для нее роль, — в гневе выскочила и стала кричать: «Первого моего мужа погубили! теперь — второго хотите!» — А Мейерхольд нашел выход — делать ее сумасшедшей. Получилось не то. Действительно, у З. Райх были страшные предчувствия. Но окончательно история не выяснена до сих пор {55}.
<1970-е>
Саперный, 10
Марине Ив<ановне> Цветаевой (на тот свет) Вике {56} — вместо Марины, на этом!
Дом существует. На доме (на крыше) какая-то архитектурная деталь {57}. Креститься на Дом нельзя — это не церковь. Перекрестить его можно — пусть существует долго, долго — так как «вечного» ничего на земле нет.
Меня туда мама не пускала, а слышала о нем много. Там бывало очень весело и интересно. В Доме жил Лёня (или Лёва, произносилось и так, и так).
Впервые Лёню (или Лёву) увидала я в кв<арти>ре Левенстерн, моих знакомых, на Литейном {58}. Был домашний концерт. Мы в прилегающей гостиной познакомились — и втроем уселись разговаривать. Неприлично проговорили весь концерт. Меня потом очень ругали. Когда в моей жизни были интересные и памятные дни, это почти всегда было под запретом, и с моей стороны всегда были «срывы» поведения: не то, что положено! Втроем? третий собеседник — Чернявский, Владимир Степанович (потом — Володя), поклонник Блока, который почти сразу с этого дня стал мне звонить, писать и обещал «привести» к Блоку {59}. Больше всего и говорил он тогда. Лёня говорил немного, сидел спиной к окну; все — за круглым столом: за стеной — шел концерт.
Володя Ч<ернявский> говорил о Блоке, притягивая мой интерес чем-то взятым из роли Бертрана перед пустельгой Изорой — из «Розы и Креста». Лёва говорил немного, я мало смотрела в его сторону, но от его египетских глаз шли — для меня — горячие волны, как будто открыли дверь в оранжерею.
Сестры Левенстерн — будущие владелицы Муз<ыкальной> школы знали семью К<аннегисеров>, и от них я узнала многие подробности. В квартире К<аннегисеров> бывали любительские спектакли, и мою старшую сестру Марусю приглашали играть в Блоковской пьесе «Балаганчик» {60}. Сестра училась в театр<альной> школе, но она предпочитала чеховский и более реальный репертуар, а к «декадентам» была равнодушна. Потом она полюбила всех поэтов, кот<орых> надо было любить, но я, младшая, была пионеркой. Вместо сестры «играть» туда пошла ее подруга детства, Мими {61} (тоже из теат<ральной> школы, но другой). Помню, какой интересный костюм подготовила Мими для «второй пары влюбленных» (т. е. демонической). Мими была очень хорошенькая, смуглая брюнетка, и многих «там» очаровала. Я о ней пишу потому, что наши судьбы связаны с квартирой К<аннегисеров>.
Из известных мне (тогда) людей в «Балаганчике» играл К. Ляндау (3-я пара; «Средневековье». Он был высоченный).
Лёва никогда не играл.
Второй спектакль был «Как важно быть серьезным» Уайльда и «Дон Жуан в Египте» Гумилёва {62}. Джека играл Сергей Акимович (т. е. Сережа) {63}, Гвендолен — их сестра, Loulou {64}. Альджернона — Никс Бальмонт и Сесили — Мими. Сесили — моя будущая роль (в театр<альной> школе и в театре) {65}. Мими играла Американку в «Дон Жуане», а самого Дон Жуана — Чернявский {66}. (Обладатель самого красивого голоса на свете. Это мое мнение подтвердили потом Антон Шварц и Дм. Журавлев, вспоминавшие потом (в разное время) этот голос и этого человека. Ч<ернявский> работал на радио одно время. Все пластинки с Лермонтовым и Блоком во время войны были уничтожены {67}.)
Я в то время все время училась и мало где бывала. Но был один вечер, когда я видала всех трех. Лёва был во фраке, с белым цветком в петлице, и они стояли рядом с Никсом Бальмонтом (рыжий, с фарфоровым розоватым лицом, зеленоглазый, и на лице — нервный тик! прелесть для моего, вероятно, извращенного вкуса!). Никса в университете звали «Дорианом Греем». Никс говорил своей сестре Ане (Энгельгардт), что, вероятно, такой, как я, была бы его покойная сестра, Ариадна — (Бальмонт) {68}, — меня часто путали потом с Аней, хотя она была смуглее, темнее и, по-моему, много красивей.
Помню стихи Лёвы, прочитанные мне:
Мне это очень понравилось, но как можно было не любить подобного человека?
Аня насплетничала, что стихи можно читать и так: «Я падаю стеблем надрубленным» и т. д. [43] Я тоже не смутилась!
Он одевался всегда comme il faut. Кроме фрака (когда он был нужен), очень строго. Никакой экстравагантности, никакой театральности.
Театральность (байронизм) была в самом лице. Иногда он слегка насмешничал. Не обидно, слегка. Иногда в его голосе была какая-то вкрадчивость. Думаю, так бывает у экзотических послов, одетых по-европейски.
Руки — сильные, горячие, и доказал он, что может владеть не только книжкой или цветком…
Я не соглашаюсь с впечатлением Марины Цв<етаевой> о «хрупкости» Лёвы {69}. Он был высокий, стройный, но отнюдь не хрупкий. Слегка кривлялся? Слегка, да. Глаза — черные в черных ресницах, египетские. Как-то говорил мне, что очень любит «Красное и черное» Стендаля. Я еще не читала тогда. Стендаль (до Пруста) был тогда в моде.
После вечера, когда Лёва был во фраке, оба они с Никсом куда-то исчезли, а со мной остался (проводить меня в машине) Володя, «зачинатель» моей эфемерной славы. Мы «подвезли» Аню (в ярко-розовом, я была в дымно-розовом) и Врангеля (тоже барона, только не того!) Антона Конст<антиновича> (в цилиндре!). Оставшись <1 слово нрзб.>, я погрузилась в самые призрачные радости: о Блоке — и — «Манон, Сольвейг, Мелизанда»…
Чтобы не возвращаться к стихам Лёвы, скажу, что стихи его (и одновременно, гумилёвские военные) прочла в личной библиотеке Николая II, когда работала одно время в Эрмитаже {70}. Что-то о Цветах Св. Франциска {71}. Юра мне говорил, что, после смерти Лёвы, Юрина мать {72}, очень верующая католичка, сказала про Лёву, с благоговением: «Он был почти католик!» {73}