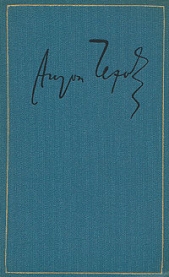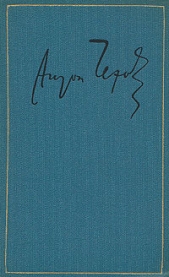«Девочка, катящая серсо...»
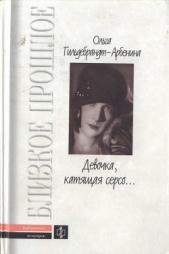
«Девочка, катящая серсо...» читать книгу онлайн
Ольга Николаевна Гильдебрандт-Арбенина (1897/98–1980) до недавнего времени была известна как муза и возлюбленная H. Гумилёва и О. Мандельштама, как адресат стихотворных посвящений поэтов серебряного века… Однако «Сильфида», «Психея», «тихая очаровательница северной столицы», красавица, актриса, которую Гумилёв назвал «царь-ребенок», прежде всего была необычайно интересным художником. Литературное же наследие Ольги Гильдебрандт впервые собрано под обложкой этой книги. Это воспоминания о «театральных» предках, о семье, детстве и юности, о художниках и, наконец, о литературно-артистической среде Петербурга-Петрограда второй половины 1910-х — начала 1920-х годов и ее знаменитых представителях: Гумилёве, Мандельштаме, Блоке, Кузмине, Мейерхольде, Юркуне, Глебовой-Судейкиной, о доме Каннегисеров… Часть текстов публикуется впервые. Содержание книги дополняет богатый иллюстративный материал, включающий не только портреты и фотографии героев воспоминаний, но и репродукции акварелей Ольги Гильдебрандт.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Юркун был очень музыкален, в доме Кузмина бывало много композиторов, и Кузмин много играл на рояле. Они оба любили Моцарта и Дебюсси. Из русских — Мусоргского, к Чайковскому — оба — спокойны. Нравился очень Стравинский. Юркун «собирал» лубки и «дневники» неизвестных людей. Некоторые — уморительные: «На обед была тетя Лина»… Или другой? Не помню!
До того, как приехал и обосновался в Ленинграде, Юркун был кое-где в провинции, играл на сцене. Его потом «заманивал» Мейерхольд. Но он «держался» литературы, а живопись (т. е. у него рисунок) пришла позднее, и до конца жизни.
Конечно, нигде не учился. Милашевский — злоязычный — к Юркуну отнесся тепло и любовно. Мне лично как-то даже назвал его «гениальным» — в самом «дионисийском смысле», — т. е. в полном кавардаке всех представлений. Об этом свойстве Юркуна точно так же отнесся еще один человек — творческий, но — не знаю, как представить его. Помню, как-то Осмеркин, увидев, как Юркун рисует, вскрикнул: «Юра, какая у тебя правильная и смелая линия!» — Тот ответил: «Саша, ведь я не на трупах учился!»

Я не помню, кто из художников (Воинов?) говорил, что у Юркуна «инфернальность» (я лично нахожу его рисунки светлыми и веселыми, а не инфернальными), — а у меня «конфирмация». Но кто-то другой нашел у меня грусть и умирание эпохи!
С Лебедевым Юркун «менялся», но не показывал ему своих работ.
1977
Мейерхольд
Мое первое воспоминание о Мейерхольде — не помню года — в детстве, в квартире Ю. М. Юрьева. Была панихида по Анне Григорьевне, матери Юрьева, которую мои родители любили и почитали. Я была с Линой Ивановной. Юрьев обожал свою мать — но — я это помню — поглядывал на М., а тот принимал какие-то театральные позы, и Юрьев ему подражал. Дома у нас обсуждалась — я помню — непозволительность их поведения.
Через несколько лет была свадьба Миши Долинова и Веры Алперс. Мы со старшей дочерью Мейерхольда, Марусей, были вроде шафериц — правда, без всякого ритуала. Появился Мейерхольд (это было в маленькой церкви Театрального училища) — на нем было что-то вроде плаща (как мне показалось), и он им ритмически взмахивал, похожий на какой-то гофманический персонаж. Мне он ужасно понравился!

Мне очень хотелось заниматься в мейерхольдовской студии, но мама не позволила. Я поступила в школу Акдрамы. И вот начались репетиции в Александринском театре — «Маскарад» {48}. Декорации Головина — волшебно-нарядные и какие-то таинственные. Нам выбирали костюмы — потом предлагалось под музыку Глинки освоить мизансцены. Мне М. велел выйти из ближайшей кулисы и идти по самому краю сцены — сделать остановку на середине на какие-то такты, а потом идти в противоположную кулису. Он сказал: выбирайте сами — что вы хотите делать — передать записку, подсмотреть что-нибудь, назначить свиданье и т. д. Решите и покажите. Помните, на каком такте остановка и на каком — дойти до следующей кулисы. — Я показала, он сказал: хорошо, и это зафиксируем. — Я в первый раз в жизни была на подмостках театра, и мне странно, когда говорят, что М. «вкладывал в рот» актерам все их движения. Репетировали мы ежедневно, утром и вечером, — он был всегда первый на месте. М. был немцем по точности и французом по темпераменту — когда репетировали галоп (я танцевала с Орестом Коханским, с другого курса) — одна из сотрудниц упала в обморок — голос М.: «убрать… господа, продолжаем репетицию».
Костюмы Головина были прелестны и разнообразны. Портнихи и парикмахеры обожали Г. за мельчайшие детали причесок на полях эскизов! Мой маскарадный костюм назывался «Долорес, танцовщица из таверны». Черный бархатный с красными бантами на белой широкой, почти балетной юбке и веночек из мелких розовых розочек в волосах. В pendant к нему был костюм «Инее, уличная певица» — узкий, желтый с синим. Очень эффектна была «Маркитантка» — оранжевый мундир, высокие сапоги, высокая меховая шапка на пудреном парике и фляга на боку. Это был костюм красивой и лихой Людмилы Якубовской, которая потом умерла в Стокгольме. Мне кажется, мы все были в трансе и не уставали. Мейерхольд кончал наши сцены: «благодарю вас всех, господа». И иногда: «особенно г. Волкова». Волков, Алексей, в костюме Арлекина (а в других сценах игроком-офицером) — талантливый ученик Юрьева и мой большой приятель; в образе Пьеро — «голубого Пьеро» — был Щербаков, Коля, — ученик Мейерхольда, очень одаренный мальчик, о котором я даже написала стихи.
Мне занятия в школе, беготня в театр и обратно, а также «личные интересы» мешали ходить на репетиции и следить за постановками с должным вниманием. К тому же половина прелести для меня в постановках М. были изумительные декорации Головина. Хотелось потрогать апельсины в сцене бала в «Маскараде» и дернуть за веревочку в сцене рынка в «Петре Хлебнике» {49}. Но мне кажется, в самом М. была неистощимая выдумка и какая-то таинственность, м. б., чертовщина. В почти гротесковом преувеличении некоторых явлении и свойств будто вылущивался смысл — например, необычная молодость и даже некрасивость Чацкого (ближе к самому Грибоедову, чем в обычном показе Чацкого как эффектного героя) — и подчеркнутая «опытность» Молчалина, и скрытая плоскость Софьи (вовсе не кисейной барышни) и т. д. Совершенно замечательна была сцена сплетен — вместо бала — обеденный стол и как в игре «телефон» — говорение на ухо соседу. — Также некоторые замечательные сцены из «Ревизора». Это я говорю о Москве, когда М. переехал и создал свой театр {50}.
В Александринском была изумительна постановка «Стойкого принца» Кальдерона {51} — и все актеры просто «сверх», за исключением умной и культурной Стаховой, которая ни по внешности, ни по таланту не была достойна роли Феникс.
Мне хочется высказать свое мнение о конфликте М. с Комиссаржевской, которая оставила по себе память очень светлой личности. Сколько я понимаю, ее поведение в отношении М. было нетактичным и даже жестоким — будто какая-то капризная, взбалмошная барынька — а он проявил себя просто рыцарем — и даже не объяснялся. Ей (особенно с годами) стал тяжел «новый» репертуар и «борьба», и легче — зудермановские девочки {52} — тем более что (так я слышала, я сама не могла еще видеть) — она не умела двигаться в костюмных ролях, кроме (целиком поставленной М.) «Сестры Беатрисы» {53}. Ее козырем был чудесный голос.
Из «приятных» воспоминаний о М.: проходя по артистическому фойе Александринского театра, где мы сидели на диванчике с Лилей Кафафовой, положил нам на колени сверток с конфетами «вишня в шоколаде» — не сказав ни слова.
В другой раз (уже после революции) мы с ним неожиданно столкнулись в «вертушке» не то дирекции, не то музея… Он посмотрел на меня, остановившись, и вдруг сказал: «Арбенина, я вас люблю». Я очень смутилась от незнания, что ответить. «Доктор» (Доктор Дапертутто) {54} — очень претенциозно, «Всеволод Эмильевич, — буднично — я ответила: Мейерхольд, я вас тоже люблю», — и выскочила из вертушки.
Должна сказать, я не хотела никогда романа с М., — я его как-то боялась — и потом поняла, что мне была бы невозможна его революционность сословная — я понимаю революционность в искусстве только.