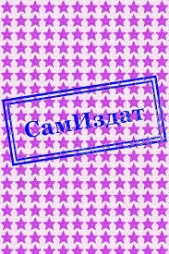Начало века. Книга 2

Начало века. Книга 2 читать книгу онлайн
«Начало века» — вторая книга мемуарной трилогии Андрея Белого. Воспоминания охватывают период с 1901 по 1905 г. В них нарисованы портреты видных литераторов и художников, рассказано о зарождении символизма, воссоздана общественная и литературная атмосфера России начала века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наш коллектив силился обобществить стремления каждого, понять их как восставшие из точки кризиса, переживаемого каждым, поскольку он отказался от породившего его вчерашнего дня.
Вставала проблема отнюдь не подтягивания тенденций каждого к своей тенденции, а гармонизация всех тенденций в искомом и еще не найденном, еще только загаданном социальном ритме.
Такова была лично моя тенденция того времени: освободить каждого от узкого догматизма его «школьной истины»; и этим разглядом расширить свое «я» до «мы», и эта переоценка собственных сил и меня окружавших людей привела к краху этой установки; и в этих усилиях коренятся мои прегрешения этого периода; ими же объясняется неотчетливость и в выборе попутчиков.
И всецело этим объясняется наше братание с двумя чудаками в этот период… Один был безвреден, благороден, но узок; другой и вреден, и неблагороден, но широк… до ужаса. Я разумею Батюшкова и Эртеля.
Сперва о первом.
Отец принял участие в судьбе П. Н. Батюшкова, оказавшегося сиротой, дав кузинам его, Гончаровым, план домашнего воспитания П. Н.; П. Н. — внучок поэта Батюшкова; с А. С. Гончаровой, родственницей жены Пушкина 112, отец был связан приязнью, философией, отчасти судьбою П. Н., студента, являвшегося в день именин отца; П. Н. — длинноносый трепет в студенческом сюртучке и при шпаге, с белой перчаткой в руке и с испуганными вороньими глазками, с носом, достойным индусского мудреца Шанкараачария, издающим звуки, напоминающие крик слона издалека, — свирепо отшаркивал 113.
Он вызывал у одних представление о чудачливом существе; и у других — о герое Достоевского, Мышкине, готовом повергнуться в эпилепсию: от трепета идей в нем; П. Н. проходил естественный факультет; с пафосом говорил он, защищая позиции Льва Толстого; споры с П. Н. о Толстом я, ребенок, выслушивал, скорчась калачиком в кресле; П. Н., дергавший носом, подскакивал от избытка своих впечатлений; он мне виделся помесью грача с… марабу; прощаясь, перетряхивал руку матери; и казалося, что — оторвет; я любил его шарк, его щелк — каблучками: по каблучку каблучком; он, вцепившийся в руку, с пощелком летел: с середины комнаты в угол; и руку, которую рвал, отрывал.
— «Ой, ой, ой, — оторвете!» — ему моя мать.
— «Да-с, — Павел Николаевич», — бывало, отец, переживая смесь иронии с нежностью; тронь кто Батюшкова… — отец бросится:
— «Нет-с, вы — оставьте-с!» Схватяся за нос, глядит строго:
— «Он — очень не глуп-с!»
М. С. Соловьев, встретив Батюшкова, наклонился испуганно к уху:
— «Кто этот?»
— «Да Батюшков».
— «Страшный какой: совсем индус!»
Батюшков и Гончарова сливались в моем представлении в эпоху 1888–1892 годов как что-то неделимое, напоминающее… двуглавого орла; «кузина» дарила книжки по естествознанию; «кузен» являл иллюстрацию птицы марабу; «кузина» первая из женщин взошла на Монблан; и первая из русских женщин стала доктором философии.
С начала 1893 года исчезли: в Париж; и не являлись на нашем горизонте.
Летом 1901 года отец сломал руку; мать и я, прочтя известие об этом, бросились в Москву, и — застали отца с забинтованной рукою, но в радостном споре с А. С. Гончаровой; она явилась из Франции; осенью из Парижа явился и Батюшков; он зачастил: сперва — к родителям, потом — ко мне.
Он, как и прежде, боготворил «кузину», следуя за нею во всем; она увлекалась Шелли; и — он; она — работала у Рише; он — говорил о Рише; она — в эстетику; он — в эстетику; она — в теософию; он — в теософию.
Но жизнь менялась: когда-то состоятельный «кузен» в 1900 году для «высших» интересов «кузины» совсем разорился; «кузина» прилетела в Россию: реализовать жалкие остатки денег и с ними уехать в Париж к «высшим» интересам, но — без Батюшкова, которого жестоко швырнула в Москве, сперва превратив в ветер его состояние; она была исключительно некрасива, умна, начитанна и остра; но — черства, хищна, холодна; и все вздрагивала, тонкосухая, как палка, с оливковой кожей и носом, напоминающим клюв; то молча сидела со всосанными щеками, обрамленными вьющимися прядями каштановой пляшущей шапки стриженых волос, закрывающих и лоб и уши; то подскакивала на вскриках птичьего голоса, переходящего в грудное контральто, показывала собеседнику два верхних передних зуба — желтых, огромных и точно кусающих; потрясала интеллектуальным до жути видом и холодно-страстным пламенем интересов своих; не то Гипатия, не то птица Гарпия; 114 сияли, не грея, черные, вспыхивающие и проницательные глаза в такт нервно порывистым жестам и встряхам волос: не то танец звезд, не то… пляска смерти; черное, узко обтягивающее платье, с чем-то ярким и желтым (может быть, шалью); леденил стрекот надетой на шею цепочки бус, которую, сухо и страстно ерзая, рвала на себе крючковатыми пальцами; не делалось уютно, когда она, носолобая (как сестра жены Пушкина) 115, выскакивала из-за коричневой портьеры в холодную коричневую гостиную, чтобы откидываться пафосом и шапкой волос, трещать черными четками; здороваясь, схватывала руку, встряхивала ее по-мужски, точно собираясь рвать; и, как кондор, стрелою слетала идеями на беззащитную «курицу» — слушателя.
Ледяной пафос! Низала словами, расставленными прочно и выпукло; начинала же с интервью: мои мысли, вкусы, знакомства, намерения? Понимала — с полунамека; и тотчас включала ответ в цепь своей мысли, вызывающей протест, треща цепочкой и вздрагивая волосами; и появлялись тексты «Бхагават-Гиты» [Поэма, время появления которой V век до нашей эры 116], которую специально изучала она, проваливаясь в недра Самкьи [Самкья — философская система древней Индии] средь серо-карих портьер, откуда она выскакивала в пыль жизни, в бега по ростовщикам: денег, денег! Вылезали враги мои — буддийские схемы; с чем бы ни приходил я, после разговора с А. С. — я был обрамлен ее миром мысли; доказывалось: я-де забрался в теософские недра, не подозревая о них.
Делалось не смешно, но досадно: цепкая кошка, черная кошка! А я — немного «мышь»; встряхом волос и голосом, выточенным из слоновой кости, перелицовывала она мой символизм в теософский догмат какой-то; я уходил — раздосадованный. И у нас появлялся робеющий Батюшков, молча внимавший мне и Гончаровой; заплетаясь, всхлипывая, он мне совал книжечки Ледбитера, Безант, Паскаля или брамана Чатерджи: книжки подсовывались «кузиною» 117.
— «Вот… Анна Сергеевна… прислала… прочесть». Прочитывал: и — приходил в раж; что у Гончаровой, кончившей Сорбонну, выглядело остро в оправе текстов из «Гиты», то у Безант кричало жалко; возмутила книжка: «Vers le Temple»; 118 я, бывало, бросался на Батюшкова; и кричал, что шагаю от Канта, Гегеля, Ницше и что не нужен мне винегрет из буддизма и браманизма.
П. Н., слабо защищаясь, пленял незлобивостью и искрой ума; виделось: его теософия — цапкие, как у орлицы, пальцы «кузины».
Он — поникал; но вновь оживал: в простосердечной беседе, вне теософии; был интересен как собеседник: кончал вздохами:
— «Анна Сергеевна».
Подавали к ужину… кашку, которую клевал он.
— «Зернышки! Птица небесная!» — разводил руками отец.
Через день или два я шел снова биться с «кузиной»; бить в лоб не давала она, выслушивая, «понимая» и «принимая»; вдруг затараракав, как из пулемета, словами, полными какого-то прикладного и очень холодного блеска, сверкая цитатами, как перстнями, осыпанными бриллиантами, она доказывала: мой протест — теософия же; вся культура оказывалась в своем движении вперед… перемещением пищи в кишечнике… Будды; в ловком маневре приятия моей революции (с подменой плацдарма) — было нечто возмутительное.