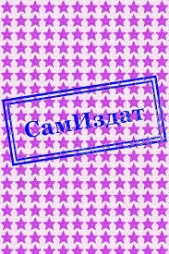Начало века. Книга 2

Начало века. Книга 2 читать книгу онлайн
«Начало века» — вторая книга мемуарной трилогии Андрея Белого. Воспоминания охватывают период с 1901 по 1905 г. В них нарисованы портреты видных литераторов и художников, рассказано о зарождении символизма, воссоздана общественная и литературная атмосфера России начала века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бедный Сергей: кандидатское сочинение о Лотце не было оценено старым «лешим», Лопатиным; Сергей не был оставлен при университете.
Философ, свихнувшийся на Канте и севший на пол, долго пользовался популярностью среди неокантианцев; и в 16-м году Кубицкий, с которым мы встретились при военном освидетельствовании 93, показывал на голые тела кандидатов на убой; только что бывший сам телом, наклонился ко мне и иронически пробасил:
— «Они сели на пол… Помните, — как ваш философ!» 94
Обиделся на философское «сиденье на полу» в те годы — философ Б. А. Фохт.
С весны 1902 года Лев Кобылинский стал своим в нашем доме, своим у Владимировых; он являлся и к Соловьевым; мать моя называла его попросту Левушкой:
— «Левушка, — как же ему не позволить кричать: разве ему закон писан?»
— «Да-с, да-с, — так сказать», — поддакивал и отец 95.
Эллис
Лев стал «Эллисом»; до тринадцатого года он сплетен с моей жизнью.
Видя позднее в удобствах его, говорил себе: «Не типично!» Меблированные комнаты «Дон», те — типичны; они помещались в оливковом доме, поставленном на Сенной площади среди соров и капустных возов; дом стеной выходил на Арбат (против «Аптеки»); другим боком дом глядел на Смоленский бульвар; третьим — в паршивые домики, с чайною: для извозчиков; обедал Лев в трактироподобном ресторанчике для лавочников, под машиной, бабацавшей бубнами «Сон негра» 96, изображаемый Эллисом — лавочникам Сенного ряда; и — нам.
Поссорившись с братцем Сергеем и с матерью, он водворился в «Дону», ячейке «аргонавтизма», с дверью на площадь, с «добро пожаловать» всем; люди в рваных пальтишках и без калош: стучали каблуками в пустом «донском» коридоре, прошмыгивали в номер шесть, где в дымах сидели на окнах, в углах, при стенках (на корточках); большинство в пальто, стоя, внимало и пыхало дешевыми папиросами; бывало, разглядываешь: Ахрамович, Русов, Павел Иванович Астров, хромой драматург Полевой (капитан в отставке), Сеня Рубанович (поэт), Шик (поэт), Цветаевы (Марина, Ася) 97, курсистки, заезжий Волошин (с цилиндром) 98, артист, мировой судья, лысый, глухой, завезенный Астровым; среди знакомых — незваные, подобные «черным маскам» Андреева 99, возникшие самопроизвольно: бледные, бедно одетые.
— «Кто?»
— «Не знаю: никогда не видал».
Таких было много; являлись и исчезали — во мглу; среди них были и ценные люди, и угрожающие «субъекты»: с подбитыми глазами, с усами в аршин; они были готовы на все; Эллис передал: с хохотом:
— «Вчера кто-то будит; протираю глаза: на постели юноша, из бывших максималистов, с золотыми часами в Руке; спрашивает: „Знаете откуда?“ — „Нет“. — „Спер у буржуя“. Ну, знаешь, я его таки: „Нет, ступайте, не являйтесь“. А он: „Испугались? Зовете дерзать? Сами буржуй“. Я выскочил в одной сорочке и выпроводил».
Комната не запиралась: ни ночью, ни днем; с пяти до пяти Эллиса не было; входили, сидели, высыпались, брали нужную книгу и удалялись; унести было нечего, кроме книжек, взятых Эллисом у знакомых; их и тащили; остальное — рвань; тяжелейший бюст Данте был не спираем.
Не комната, а сквозняк: меж Смоленским рынком и Сенной площадью; в 906 году Эллис жаловался:
— «Сплю в кресле: негде; вхожу — на постели — „товарищ“… спотыкаюсь: на полу, поперек двери, — „товарищ“; так — каждую ночь».
С 1905 года вопреки аполитичности в лысом бодлерианце вспыхнул максимализм; появились старые знакомые эпохи увлечения марксизмом: Череванин, Пигит, К. Б. Розенберг и т. д.; Эллис открыл дверь нелегальным; знакомые приводили знакомых; Пигит циркулировал с браунингами, составляя «аргонавтическую» десятку (перед декабрьским восстанием); комната Эллиса стала почтовой конторой для передачи: сообщение вкладывали в книгу на столе; приходили: прочитывали, отвечали, вкладывали; с Эллисом не считались; о «почте» он сам не знал; наткнулся случайно.
Он устраивал вечера в пользу нелегальных и боевых организаций; сидел в Бутырках; вернулся — поздоровевший:
— «Отдохнул, выспался».
— «Ну, как отсидел?»
— «Было б весело, кабы не смертники; коммуною жили, — а, что? Были старосты, была связь с другими коммунами; как заперли, подошел староста: „Товарищ, — фамилия, партия?“ — „Не имею фамилии: Эллис — псевдоним; принадлежу к единственной настоящей партии: к декадентской“. Так и прописали на листке… Ты понимаешь? Ги-и… и-и-и, — он икал, трясясь смехом. — Листик на стенке висел: товарищей социал-демократов, большевиков — такой, эдакий: столько-то; меньшевиков, — ну, там, ты понимаешь — такие-то: столько; такие, сякие — эсеры; столько-то товарищей максималистов-экспроприаторов („смертники“ были)… Среди них, — понимаешь: товарищ декадент — один».
И, вогнав лысую голову в спину, согнувшись, рот закрывал рукою, хихикал.
— «А? Что?»
Брови вскидывал:
— «В недрах Бутырок коммуною жил, как сознательный декадент», — перещипывал эспаньолку он.
В камере поднял шум, апеллируя к талантам мима: изображал Вячеслава Иванова, Брюсова, Сологуба; прочел реферат: о Данте; пляс поднимал; посадил играть на гребенках рабочих, экспроприаторов; камера заплясала; стало досадно тюремному надзирателю: попросился смотреть на пляс; пустили; прошел слух: в камере номер такой-то сидит декадент и штуки чешет; просились о переводе в камеру.
Была регламентация часов дня: вечерами — веселье; а днями — работа; саженный рабочий, грызя карандаш, сидел днями за задачником Евтушевского; 100 были часы пропаганды: эсдеки агитировали среди «менее сознательных» экспроприаторов, садились рядками: более сознательный, менее сознательный, более сознательный; менее сознательный зажимался сознательными; сознательные старались:
— «Товарищ экспроприатор, — вы что же такое? Дезорганизуете революцию?»
— «Понимаешь? Что? — меня схватывал за руку Эллис. — Стоял деловитый гул: „бубубу“ — бубукали сознательные: несознательным…»
— «Ну, что же ты?»
— «Предложил свои знания меньшевикам; тоже в ухо садил здоровенному экспроприатору; спать ложились рано, вставали чуть свет: отоспался, поправился…»
Эллиса выпустили; но таки докучали потом: и слежкой, и обысками; раз чуть не сцапали ящик: с нелегальной литературой, которую поставили к нему на храненье; Эллису пришло в голову сесть на ящик; про ящик забыли.
К концу 906 года он завел дружбу с экспроприаторами.
Попав в южный город, увидел, как кучка зубров пристала к еврею; размахивая палкой, — он напал, кого-то отколотил; прочие разбежались, к восторгу прохожих; Эллиса таскали, фетировали, пели песни; пришлось исчезнуть из города, чтобы не сесть.
Во время заседания «Свободной эстетики» подвели офицера, желавшего поговорить о Бодлере; вообразив, что это Р…, о котором слухи, что в прошлом — он избиватель 101, Эллис отдернул руку; и провизжал:
— «Руки не даю». 102
Офицер заявил окружающим: недоразумение; он доведет инцидент до Офицерского общества и вызовет на дуэль. Общество постановило: в случае смерти офицера или его ранения, каждый следующий вызывает Эллиса; с величайшими усилиями ликвидировали и этот инцидент, грозивший не только преследованиями, но и смертью.
Кабы не семь нянек, Эллису не бывать бы живу.
Интересная дама, которую Эллис остервенил, гонялась за ним: нанести оскорбление, не понимая, кто кого любит, любовь или ненависть между нею и Эллисом на почве разговоров о «Падали» Бодлера? Она вышла замуж; Эллис объявил, что она изменила «мечте», вступив в брак с идиотом; оскорбленная этим дама, настигнув Эллиса, закатила ему затрещину перед возом с капустой: у входа в «Дон»; он, сняв котелочек… подставил… другую щеку; дама — в обморок; Эллис — в истерику.