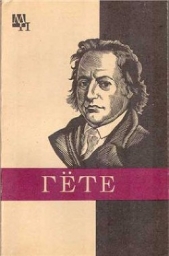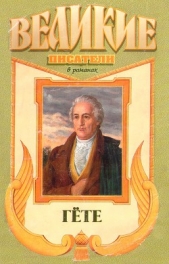Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни

Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Здесь не место рассказывать о том, как Гёте в юные годы воспринимал волновавшие его события семейной и общественной жизни в свободном имперском городе, — это было бы лишь бледным пересказом того, о чем он так ярко рассказал в своих воспоминаниях: пестрая толпа на ярмарках; посещения дедушки Текстора в его доме и саду; торжества по случаю коронации Иосифа II в 1764 году (знаменитое описание в пятой книге «Поэзии и правды»); развлечения во время сбора винограда на винограднике отца у Фридбергских ворот; поездка по Рейну; посещение Юденгассе; пожар на кривых улочках города и многое другое.
«Нам доводилось быть свидетелями всевозможных экзекуций, и мне помнится даже, что однажды я присутствовал при сожжении книги… Право же, трудно представить себе что–нибудь страшнее расправы над неодушевленным предметом» (3, 126). «Экзекуции»
66
подвергся не французский фривольный роман, как думал Гёте, а речь, по всей вероятности, шла о сочинениях религиозного фанатика Иоганна Фридриха Людвига, сожженных с пышными церемониями 18 ноября 1758 года по приказу императора. Подобное случалось тогда нередко. «Эмиль» и «Общественный договор» Руссо (1762) были публично сожжены палачом в Женеве. Генрих Гейне позднее писал пророчески в «Альманзоре»: «Там, где сжигают книги, будут сжигать в конце концов и людей». Несмотря на воспоминания Гёте и предупреждение Гейне, немецкие профессора литературы считали своим долгом произносить зажигательные речи во время сожжения книг национал–социалистами 10 мая 1933 года.
Беспокойства и трудности не миновали 14—15–летнего подростка. У него появились друзья, ценившие его способность легко писать стихи и послания и пользовавшиеся этим в своих интересах; он влюбился в некую Гретхен, о которой мы знаем только из «Поэзии и правды», и оказался замешанным в неприятности, когда раскрылись преступные дела членов этой компании и официальное расследование должно было коснуться и его. В дом даже был взят гувернер, чтобы наблюдать за подростком и руководить им.
Хотя ему теперь и не было разрешено, как он того хотел, отправиться в Гёттинген для изучения древнего мира под руководством таких филологов, как Кристиан Готлоб Гейне и Иоганн Давид Михаэлис, юноша с радостью согласился учиться в Лейпцигском университете — лишь бы вырваться из домашней обстановки, которая становилась все стеснительнее. «И эта попытка встать на собственные ноги, обрести самостоятельность, жить для себя и по–новому, независимо от того, удастся ли она или нет, всегда согласна с волею природы» (3, 204). 3 октября 1765 года шестнадцатилетний студент прибыл в Лейпциг как раз во время ярмарки.
1749—1765 годы, проведенные во Франкфурте, были годами защищенного детства и разностороннего развития. С непоколебимой уверенностью мальчик стал овладевать языком как орудием творчества, чтобы творить именно в этой сфере. С десятилетнего возраста, как свидетельствует его письмо из Лейпцига, он считал себя поэтом (11—15 мая 1767 г.). Выражать мир средствами языка было для него с самого начала естественной формой самовыражения — еще до всяких рефлексий об условиях, возможностях и трудностях подобного предприятия. Аутодафе, которому он
67
безжалостно предавал свои детские произведения, доказывает, что они не могли больше отвечать сознательным требованиям соответствующего времени художественного творчества.
Гёте родился в состоятельной семье, строго придерживавшейся лютеранства и прочно укорененной в вековом укладе имперского города, его окружал мир общепризнанных и общеобязательных традиций. Но они не стали его неотчуждаемым наследием, напротив, уже в ранние годы он противопоставил традиционной вере сомнение. Внук шультгейса, он убедился в закостенелости общества, в котором патрицианские роды, как и прежде, заправляют всем и нет религиозной и духовной терпимости и свободы. Он «не был в неведении относительно тайных изъянов такого рода республик, тем паче что дети обычно пускаются в самые рьяные расследования, едва что–нибудь, прежде безусловно почитаемое, покажется им хоть немного подозрительным» (3, 202). Старый Гёте писал, оглядываясь в прошлое, об «антипатии к родному городу», которая становилась ему все очевиднее. «И как старые мои башни и стены мало–помалу опротивели мне, так больше не удовлетворял меня и политический строй города; все, что доселе внушало мне почтение, теперь предстало передо мной как бы в кривом зеркале» (3, 202).
68
ГОДЫ УЧЕНИЯ В ЛЕЙПЦИГЕ
В «маленьком Париже»
Гёте в октябре 1765 года приехал в Лейпциг. Началась его трехлетняя жизнь в городе с 30000 жителей, ставшем главной немецкой ярмаркой. Трижды в году стекались сюда купцы — в этот центральный пункт торговли между Западной и Восточной Европой. Без сомнения, этот город на Плейсе был более «открытым» и «современным», чем город на Майне. И с градостроительной точки зрения он был шире, чем тесный Франкфурт; «Гроссе фойеркугель» («Большой огненный шар», называемый так из–за изображенной здесь горящей ручной гранаты), где поселился вновь прибывший, представлял собой одно из тех зданий, которые окружают с четырех сторон двор. Фасад их выходил на две улицы, «которые, чуть не до небес замкнув собою дворы, походили на могучие крепости, едва ли не на целые города» (3, 206). Лейпциг называли почтительно или неодобрительно «маленьким Парижем». Столицей Саксонии был Дрезден, который в отличие от торгового и университетского города Лейпцига был целиком ориентирован на королевский двор и заслужил своей роскошью прозвание «Флоренция на Эльбе».
Хотя во время Семилетней войны (1757—1763) Лейпциг пострадал от наложенной на него Фридрихом II Прусским контрибуции, торговля в нем снова расцвела. Здесь уже давно не двор задавал тон, а состоятельные бюргеры и ученые определяли образ жизни и духовное и художественное творчество и восприятие: банкиры, купцы, чиновники, пасторы, профессора и магистры.
69
Лейпциг был для Гёте новым миром. Город «не воскрешает перед нашим взором старые времена, в его памятниках олицетворена новая, недавно прошедшая эпоха оживленной торговли, зажиточности и богатства» (3, 206). Здесь вели себя иначе, чем во Франкфурте, и то, что Гёте видел и слышал, не укладывалось в те категории, в которых он до тех пор мыслил. Все это было связано с тем, что здесь не господствовали могучие патрицианские роды и ни одно вероисповедание не могло предъявить прав на монопольное положение. Здесь открывались более широкие горизонты, хотя в университете недавно происходили жестокие схватки между веропослушными и просветительски настроенными учеными и такие люди, как Кристиан Томазиус и Кристиан Вольф, вынуждены были отступить. Здесь господствовала известная терпимость. Разве это не доказывается постановкой «Минны фон Барнхельм» Лессинга, этой весело–серьезной комедии с саксонской дворянкой и прусским офицером, в городе, который не забыл, как он пострадал от прусского короля — а в пьесе так хорошо говорят о короле.
По собственному признанию, Гёте уже своей одеждой производил впечатление, будто он явился с другой планеты. Своей старомодной, провинциальной одеждой, привезенной из Франкфурта, он вызвал в галантном «маленьком Париже» удивление и смех, и ему не оставалось ничего другого, как обзавестись «новомодным, приличествующим здешним местам гардеробом» (3, 211). У него возникли трудности и с его франкфуртским диалектом — он был архаичнее, многословнее и грубее, чем та ясная, «разумная», точная речь, которую культивировали образованные люди в Лейпциге и которой они учились у Готшеда, Геллерта и Вейсе.
Приспособиться к непривычному окружению было нелегко. «В Лейпциге студент должен был усвоить галантное обхождение, ежели он хотел поддерживать общение с богатыми, добропорядочными и чинными жителями этого города», — заметит Гёте в «Поэзии и правде» (3, 212). Правда, «галантное обхождение» было несколько щекотливым делом, потому что оно скорее было выражением неуверенных поисков, чем ясной, уверенной манерой. Эту манеру еще не нашли бюргеры, стремившиеся к новому. Старались следить за тем, что считалось модным, что было повсюду принято, а это влекло за собой и чужеземные черты. К условиям жизни бюргера приспосабливали элементы придворного этикета, что приводило к явлениям,