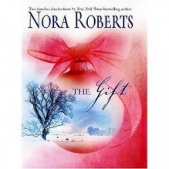Жизнь некрасивой женщины

Жизнь некрасивой женщины читать книгу онлайн
«Жизнь некрасивой женщины» — автобиографические записки княжны Екатерины Александровны Мещерской, относящиеся к периоду ее жизни в Москве 20-х годов. Отрывки воспоминаний о ранней юности Екатерины Александровны были опубликованы журналом «Новый мир» в 1988 году («Трудовое крещение»), в которых она поведала романтическую историю неравного брака родителей: 73-летнего князя Александра Васильевича Мещерского, шталмейстера Двора, и талантливой 25-летней певицы Екатерины Прокофьевны Подборской.
В 1896 году у супругов Мещерских родился сын Вячеслав, которого крестил Великий князь Михаил Александрович Романов. Когда же в 1904 году появилась дочь Катя (Китти), отца уже не было в живых. Ее крестил о. Иоанн Кронштадтский.
После революции княгиня Мещерская потеряла все… Её дочь Китти к тому времени успела проучиться три года в Московском дворянском институте. Началась полная лишений жизнь…
Екатерина Александровна Мещерская умерла на девяносто первом году жизни в 1994 году. Похоронена на Введенском кладбище Москвы рядом с матерью и мужем.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С первых же дней замужества я поняла, что совершила роковую ошибку. В своих силах просчиталась. Когда я вспоминала о своих намерениях начать новую жизнь, продолжить образование и работать, то могла только горько усмехаться.
Трудно представить себе, что за дикий и неуравновешенный Ника был человек, и не менее трудно описать его…
Может быть, он по-своему и любил меня, но обращался как с котенком или щенком, которого «завел» себе для забавы. Он то всюду таскал меня с собой, то оставлял и пропадал неизвестно где день, два или больше. Слово его никакого веса не имело.
Васильев всегда следил за тем, чтобы у меня на руках не было никаких денег, так как вечно подозревал, что я убегу.
— Если тебе что надо — скажи! Куплю! — говорил он.
Течения его мыслей и взгляды на жизнь я не могла постигнуть.
Если он заставал меня за чтением какой-нибудь книги, то с тревогой смотрел на заглавие, и если это оказывался роман, отнимал его:
— Глупостей набираешься! Читаешь о молодых красавцах и разных любовниках! К черту эту дрянь!
Тогда я стала читать книги на французском и немецком.
— О чем читаешь? — тревожно спрашивал он.
— Это описание путешествий, — лгала я, стараясь не улыбаться.
— Наверно, врешь, обманываешь, — уже добродушно замечал Васильев, так как к иностранным книгам питал какое-то необъяснимое уважение.
Однажды все-таки не выдержал.
— Нарочно нерусские книги читаешь! — вспылил он, хлопнув кулаком по столу. — Мне назло, чтобы я не узнал о чем.
— Я читаю, чтобы не забыть языки, — стараясь казаться спокойной, ответила я, — мне ведь не с кем говорить, а это практика…
Мой довод оказался убедительным, и иностранная литература, в которую я ушла с головой, была узаконена.
Я жила в Москве, где выросла, где все улицы были по-родному знакомы, где было столько друзей, но жизнь моя проходила словно в заточении, в чужих комнатах, с чужими семейными фотографиями на стенах, и окружал меня чужой, купленный за деньги уют. Мне была противна любезная до приторности и до крайности любопытная Мария Ивановна.
Обычно утром, прямо с постели, натощак мы ехали в ресторан, чтобы выпить чаю в безлюдном зале, глядя на еще заспанные, отекшие лица официантов. Парадные, сиявшие блеском в вечернем освещении зеркала зала казались мутными при свете утра, а золотые рамы потрескавшимися. Чай казался недостаточно горячим, четырехугольники сливочного масла и черной икры — казенными и невкусными. Вся эта обстановка была мне противна. Я вспоминала домашний чай, горячее молоко в фарфоровом молочнике и золотистое масло в большой масленке.
— Ника, умоляю тебя, купи мне примус, сковородку, кастрюлю! Я так мечтаю хотя бы иногда что-нибудь состряпать, ну хоть картошки простой отварить…
— Дурочка, — смеялся он, — всякая другая женщина на твоем месте чувствовала бы себя королевой, а ты стряпать… Ни иглы, ни кастрюли не должно быть в твоих руках… на! — Он совал мне в руки газету. — Читай, что сегодня на бегах, или посмотри и выбери, куда нам пойти вечером.
После театра — ужин в «Савойе», «Гранд-отеле», но чаще всего на Петровских линиях, в «Ампире», где столик номер тринадцать числился за Васильевым.
Ника любил кутить у «Хромого Джо» — в ресторане-подвале на Бронной, около бывшего ломбарда. Там почти не проходило ночи без какой-либо потасовки. Артисты кабаре у «Хромого Джо» исполняли номера между столиками.
Женившись, Ника продал трех рысаков, ходивших на бегах, и купил мне бриллиантовые серьги большой ценности. Однажды на рассвете, когда мы выходили из «Хромого Джо», на нас набросились трое бандитов, один из которых был убит Никой на месте ударом в голову, а остальные задержаны подоспевшей милицией.
У «Хромого Джо» собирались все поэты: Мариенгоф, Шершеневич, Есенин, Пильняк, Мачтет и Маяковский.
Однажды Шершеневич с «пьяных глаз» выдумал послать мне записку и, указывая на меня официанту, сказал:
— Вон та самая, червонна дама…
Этого было достаточно, чтобы Ника, прыгнув и перевернув наш столик, бросился бить Шершеневича, и, если бы товарищи по перу не окружили несчастного поэта стеной, неизвестно, чем бы это для него закончилось.
Минутами казалось, что от этой жизни я схожу с ума.
После ужина в ресторане мы обычно ехали в Петровский парк, в «Мавританию» к цыганам.
Возвращались от них ранним утром. После разухабистого, гортанного, рвущего душу цыганского пения, после диких плясок с конвульсивно трясущимися худыми черными телами цыганок, после топанья, выкриков и гиканья пустые, безлюдные аллеи Петровского парка вливали в душу благотворный покой. Я полюбила этот парк, склонившиеся ветви деревьев, зимой — в нахлобученных шапках искристого снега, летом — в трепетном кружеве листвы, кажущейся в полумраке совсем черной.
Рядом со мной, положив на мое плечо голову, дремал Васильев — утомленный зверь.
Напрасно я искала в сердце хотя бы каплю теплоты к нему. Я сознавала, что никогда не смогу к нему привыкнуть.
Даже во сне упрямое выражение не покидало его лица. Казалось, упрямство таилось где-то в складке рыжеватых бровей около переносицы. Золотистые ресницы плотно сжаты. Одной рукой Васильев обнимал меня, и на этой руке был тот же золотистый пушок. Все в нем было мне неприятно. Страшно было себе сознаться, что в лучшем случае этот человек меня удивлял или забавлял, в худшем — невыносим до отвращения, до тошноты.
Единственными часами моей свободы было время, когда Ника летал. Из-за своей совершенно непонятной и ни на чем не основанной ревности он скрывал от меня дни и сроки своих командировок, исчезая на дни, а иногда и на недели.
Это было тем более для меня унизительно, что он не скрывал их от нашей квартирной хозяйки Марии Ивановны, прося ее даже во время его отсутствия за мной «присматривать». И вот иногда просто для того, чтобы выйти подышать воздухом, я должна была войти в какой-то тайный контакт с противной мне Марией Ивановной. А последняя принимала какой-то покровительственный и многозначительный вид, точно я теперь у нее в руках и нас с ней связывает что-то нехорошее и темное.
Однажды тайно от Ники она с многозначительной улыбкой передала мне письмо, пришедшее прямо на мое имя в отсутствие Ники. Письмо от мамы. Она нашла меня, узнав на аэродроме адрес Васильева.
«У меня к тебе важное дело, тебя касающееся», — писала мама и просила меня о свидании.
В один из дней, когда Ника был в очередной командировке, я позвонила на Поварскую Дубову и попросила его передать маме день и час, когда я буду ждать ее на центральном телеграфе.
Когда в шуме и сутолоке телеграфа, среди десятков мелькавших людей я увидела безукоризненно прямую мамину фигуру, ее легкую походку, знакомую шубку, милое, тонкое лицо, мне захотелось броситься ей навстречу, обнять, прижаться, заплакать, рассказать о том, как я несчастна, — но ее холодное «здравствуй» и надменный кивок головы будто ушатом ледяной воды окатили меня с головы до ног. Я быстро справилась с собой и попала ей в тон.
— Дело в том, — прямо начала мама, — что твой брак недействителен: Софья Дмитриевна была у меня и у Пряников. Васильев с ней не развелся, а просто взял новый паспорт.
— Ну и что же?
— Как то есть «что же»? Я просто считала своим долгом предупредить тебя об этом. Софья Дмитриевна сказала, что даже ничего не знала о его браке с тобой.
— Странно… — я была удивлена. — Но почему же она не появилась тогда, когда Ника хлопотал о Петровском, когда он получил его? Почему не приехала к нему, когда мы с ним туда уехали? Где она вообще была до сих пор и почему теперь не придет к нам, не объяснится?.. Все ее поведение более чем странно…
На это мама не нашла что ответить. Поговорив еще немного, мы расстались так же холодно, как встретились. Что заставило маму пойти на это свидание? Какова была ее цель? Расстроить мой брак с Никой? Может быть, ей просто захотелось меня увидеть?.. Это осталось для меня тайной.
Я предупредила Марию Ивановну, и когда Ника вернулся из командировки, я передала ему полностью все сказанное на свидании с матерью.