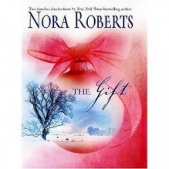Жизнь некрасивой женщины

Жизнь некрасивой женщины читать книгу онлайн
«Жизнь некрасивой женщины» — автобиографические записки княжны Екатерины Александровны Мещерской, относящиеся к периоду ее жизни в Москве 20-х годов. Отрывки воспоминаний о ранней юности Екатерины Александровны были опубликованы журналом «Новый мир» в 1988 году («Трудовое крещение»), в которых она поведала романтическую историю неравного брака родителей: 73-летнего князя Александра Васильевича Мещерского, шталмейстера Двора, и талантливой 25-летней певицы Екатерины Прокофьевны Подборской.
В 1896 году у супругов Мещерских родился сын Вячеслав, которого крестил Великий князь Михаил Александрович Романов. Когда же в 1904 году появилась дочь Катя (Китти), отца уже не было в живых. Ее крестил о. Иоанн Кронштадтский.
После революции княгиня Мещерская потеряла все… Её дочь Китти к тому времени успела проучиться три года в Московском дворянском институте. Началась полная лишений жизнь…
Екатерина Александровна Мещерская умерла на девяносто первом году жизни в 1994 году. Похоронена на Введенском кладбище Москвы рядом с матерью и мужем.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы быстро примчались на Поварскую, помогли шоферу внести к дверям нашей квартиры всю груду сделанных нами покупок, и я позвонила.
Анатолия открыла на мой звонок. Она окинула меня с ног до головы удивленным взглядом, лицо ее потемнело, тонкие губы сжались.
— Что вам здесь надо? — спросила она холодно и слегка прищурившись, что она делала всегда, когда желала показать свое презрение.
— Где мама?
— Мама? Она просила, чтобы ты ее больше не беспокоила. Мне кажется, ты уже достаточно ее оскорбила.
Васильев хотел тетке что-то возразить, но я остановила его движением руки.
— Ну что же, — стараясь не показать волнения, ответила я, — в таком случае не будем тревожить; тогда, если можно, пусть часок полежат здесь наши вещи, только прошу их не трогать… и вот еще что… — Я вырвала листок из записной книжки Васильева, вынула вложенный в нее маленький карандашик и написала:
«Мама! Забудьте все и простите! Вы хотели, чтобы я обязательно вышла замуж; а если выбирать между Дубовым и Васильевым — я предпочитаю последнего. Мама! Мне тяжело расставаться с Вами, нас только двое осталось на свете. Простите меня, если Вы христианка, и благословите».
Я попросила тетку передать эту записку маме и сказала, что мы заедем через час.
Оставив все покупки на Поварской, Васильев повез меня во вновь открывшийся ресторан Филиппова на Тверской. Там мы пообедали, и, оставив меня за кофе, Васильев поехал за провизией, винами и на аэродром за летчиками, а также за второй машиной.
Знакомый Васильеву метрдотель принес газеты, журналы и велел подать мне мороженого.
Я не могла читать. Буквы прыгали перед глазами, и я только делала вид, что занята чтением. Оркестр играл попурри из «Кармен», и ведущая в оркестре скрипка пела арию Микаэллы, которую так часто певала мама. Ах, мама, мама!.. Слезы заволакивали мне глаза. Как необдуманно она поступила тогда с Васильевым и как теперь жестоко отталкивает меня! Может быть, я сейчас делаю необдуманный, ложный шаг, но кто сядет со мной рядом, кто посоветует, рассудит, кто со мной поговорит?.. Меня всё и все озлобили и ожесточили, а Васильев тронул чем-то, задел в самой глубине души что-то хорошее, и я поверила и пошла за ним.
Васильев вернулся сравнительно быстро. За ним в зал ресторана вошли шесть его товарищей летчиков.
Одна за другой захлопали пробки откупориваемого шампанского в руках услужливых официантов.
— Едем! Едем! — торопил всех Васильев.
У подъезда ресторана нас ожидали две машины. В несколько минут мы снова домчались до Поварской. У подъезда меня неприятно поразила «скорая помощь» с красным крестом. Оставив летчиков в машине, мы быстро поднялись наверх, преследуемые легким и тошнотворным запахом эфира.
Тетка, бледная и злая, распахнула перед нами дверь, а едкий запах эфира, пахнувший мне в лицо из нашей квартиры, сжал мое сердце страшным предчувствием.
— Преступница! — бросила мне тетка. — У мамы от огорчения и волнений хлынула кровь горлом, лопнули сосуды, убила ты ее… мы думали, ты шутишь… но когда Экка увидела фату, венчальные свечи и когда прочла твою идиотскую записку, она поняла, что это не шутка с твоей стороны и что ты венчаешься с этим…
— Ах вот как… хорошо, постараюсь ответить понятным вам языком: маму ничуть не расстроило мое бесчестье, мои слезы, мое горе, а теперь, когда я действительно делаюсь женой по тому закону, который она чтит, она вздумала умирать от горя. Ну что ж, если так — пусть умирает! — произнесла я страшные слова, которые впоследствии мама мне простила, но которые, конечно, не имеют прощения. Но не хочу скрывать: в ту минуту я была полна ненависти к собственной матери.
18
Наши машины неслись по шоссе с бешеной скоростью. Меня окружали совершенно чужие лица. Все окружающее казалось каким-то невероятным сном.
По дороге летчики распивали специально взятое на дорогу вино, и пустые бутылки, выбрасываемые на ходу из окна, со звоном летели по откосу шоссе.
Мне казалось, что мы мчимся не на венчание, а на сатанинский шабаш.
— Ребята, — просил Васильев, — вы не очень-то, выпьем после церкви, а то как бы вы венцы не уронили.
— Ты ли это говоришь? — смеялись летчики. — Будь спокоен, не подведем!..
Сам Васильев не пил, хотя я его и не просила об этом. Всю дорогу я его уговаривала не венчаться в Петровском.
— Все меня там знают, — просила я, — будет шум и крик, поймите, что это неудобно! к тому же это значит венчаться у нашего священника, у которого мама проводила ту памятную ночь. Прошу вас ради меня этого не делать. Я укажу деревню, к которой Мещерские не имели отношения, там и обвенчаемся.
Еле-еле мне удалось его уговорить. Я указывала дорогу, и, не доезжая с полверсты до Петровского, наши машины, мягко и неуклюже переваливаясь и покачиваясь, стали съезжать с шоссе на обычную дорогу, наезженную телегами, которая вела к Бурцеву.
19
Когда мы вошли в старинную церковь Бурцева, прекрасный большой хор дружно и стройно грянул навстречу свадебное приветствие невесте.
Меня до глубины сердца тронуло венчание: молитвы на славянском языке, напомнившие мне уроки Закона Божьего в институте, старинная роспись стен храма, мрачные, строгие иконы, смотревшие на нас печальными ликами, иконы, видевшие дни старой Руси…
Но больше всего меня тронул сам священник: маленький, сухой, с добрыми выцветшими глазами. Мне было трогательно смотреть на то, как он хлопочет, читает, молится, топчется и изо всех сил старается, чтобы это помогло нам в нашей с Васильевым жизни.
Но самое необыкновенное было еще впереди.
Едва священник повел нас в главную часть храма, поставил перед царскими вратами и началось венчание, как мощный, раскатистый удар колокола потряс тишину. Все стоявшие в церкви вздрогнули… Удар повторился, еще и еще, удары понеслись один за другим, наполняя все вокруг радостными звуками, и вдруг вслед за главным колоколом серебряными перезвонами залились остальные колокола. В ответ Бурцеву загудел серебряный древний колокол Демидовых из Петровского.
Веселая ватага крестьянской молодежи, задумавшей сделать нам сюрприз, неожиданно ворвалась на колокольню, звонила и благовестила, изощряясь в мастерстве. Колокольный звон Бурцева соперничал с Петровским. Перекликаясь, они сливались в единый, не умолкавший торжественный звон, под который и длилось наше венчание.
Когда мы вышли из храма, нас поздравляли со всех сторон. На мосту крестьяне, по русскому обычаю, преградили нам путь связанными полотенцами. Требовали откуп. Васильев платил, он был в восторге.
— Братцы! — крикнул он в толпу. — Мы хотя спирту и привезли, но на всех не хватит! У вас тут, наверно, под шумок самогоном занимаются. Валяйте, несите, я плачу! Чем больше, тем лучше!..
За столом не хватало мест, прямо на поляне перед дорогой и шоссе жгли костры, пили самогон, плясали, гикали; пыль желтыми облаками вставала над заревом огня, от костров пахло горьковатым дымом и гарью…
«Настоящий шабаш!» — мелькнуло опять на миг в моем сознании.
От близости Васильева, который то и дело говорил мне шепотом нежные слова, целуя меня беспрестанно, потому что дикий рев: «Горько! Горько! Горько!» — не умолкал, мне становилось невыносимо страшно. Чувствуя, как этот страх растет и ширится в моей груди, я стала пить без разбора все, что только мне наливали. Потом я пустилась плясать «русскую», плясала ее до изнеможения, потом опять пила, и мне вдруг стало невероятно весело, потому что все лица, сидевшие вокруг стола, ширились, растягивались, удлинялись, свадебный стол странно колыхался и уплывал куда-то, а все вокруг ложилось то на один, то на другой бок так, как это бывает с каютой на корабле во время качки.
20
После свадьбы мы жили в Москве. Ника снял в Леонтьевском переулке две прекрасные солнечные комнаты у некой Марии Ивановны, дамы лет сорока, высокой, полной, голубоглазой обладательницы большой квартиры.