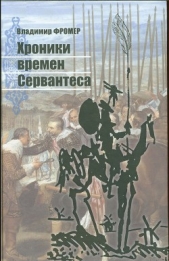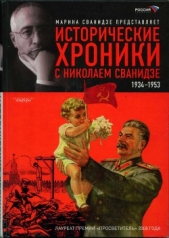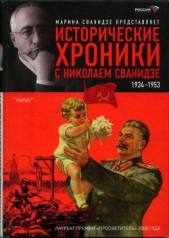Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта

Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта читать книгу онлайн
В новой книге известного режиссера Игоря Талалаевского три невероятные женщины «времен минувших» — Лу Андреас-Саломе, Нина Петровская и Лиля Брик — переворачивают наши представления о границах дозволенного. Страсть и бунт взыскующего женского эго! Как духи спиритического сеанса три фурии восстают в дневниках и письмах, мемуарах современников, вовлекая нас в извечную борьбу Эроса и Танатоса. Среди героев романов — Ницше, Рильке, Фрейд, Бальмонт, Белый, Брюсов. Ходасевич, Маяковский, Шкловский, Арагон и множество других знаковых фигур ХIХ-ХХ веков, волею Судеб попавших в сети их магического влияния. С невиданной откровенностью Психея разоблачается в очах видящих…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как-то при встрече с Яшенко я рассказал ему про этот эпизод, спросив, правда ли, что он золотой? По смущению Яшенко я увидел, что рассказ Нины Ивановны был, конечно, сущей правдой. Но Ященко все-таки пробормотал: — «Что вы слушаете эту истеричку, врет она все, ничего подобного никогда не было…» Видно, профессору международного права было неудобно вспоминать свои «шалости амура».
Какие-то чудовищные вещи Нина Ивановна рассказывала про Бальмонта, которого хорошо знала. Рассказывала, что когда она была женой С. А. Соколова-Кречетова, ведшего издательство «Скорпион», у них часто собирались братья-писатели, художники, актеры, все, кто были близки к тогдашнему декадентству и символизму. И вот раз, за большим пиршеством, она, хозяйка дома, сидела за столом рядом с Бальмонтом. Компания была шумная, большая, ели, пили, говорили, кричали. Потом Нина Ивановна, как хозяйка, встала пойти на кухню о чем-то распорядиться. А в кухне кухарка так вдруг и ахнула: ««Барыня, говорит, да что это вы вся мокрая…» Взглянула я на свое платье, и вижу, действительно, что с одной стороны (с той, с которой сидел Бальмонт) я вся мокрая. Пришлось идти переодеваться». «Так что же он сделал?», — не совсем догадался я. «Как что? — недоумевающе проговорила Нина Ивановна, — обмочил меня всю… Нарочно, конечно…»Я выразил свое крайнее удивление, как это он так словчился, а главное, зачем? «Зачем? — переспросила Нина Ивановна, — вы не знаете Бальмонта, в другой раз было хуже. Звонит как-то Бальмонт, говорит, хочет зайти. Я ему говорю, что Сергея Алексеевича нет. А он отвечает, что ему его и не надо, поэт хочет видеть меня и читать мне свои стихи… Ну, говорю, приходите. Пришел он, долго сидел, все читал свои стихи, потом позвала меня прислуга, я извинилась, вышла. Возвращаюсь в гостиную минут через пять, Бальмонта нет. Я удивилась. И вдруг вижу — на ковре посредине гостиной оставлена визитная карточка…» — «Визитная карточка?»- «Ах, Господи, какой вы, Гуль, непонятливый… Оставил на ковре свои… ну… фекальные массы…» — «Да что вы, Нина Ивановна! Ну, стало быть, он просто ненормальный, душевно больной?» — «Ничего не ненормальный… Поэт… Декадент…» — пожала плечами Нина Ивановна…
Несколько раз Нина Ивановна говорила, что хочет прийти к нам, познакомиться с моей матерью. Я не очень спешил с приглашением, ибо понимал, что моя мать и Нина Ивановна — люди совершенно разных миров. Но Н. И. так настаивала, что наконец я ее пригласил. Она пришла, конечно, вместе с молчаливым уродцем Надей. Пили чай. Для Нины Ивановны я приготовил вино. Но визит был явно неудачен. У мамы с Ниной Ивановной никакого «общего языка» не нашлось. И когда Н. И. и Надя ушли, мама только сказала: «Какая-то странная и какая-то несчастная женщина…»
Нина Ивановна и была — странная и несчастная. Помню, как о смерти в Москве Валерия Брюсова первым сказал Нине Ивановне я. Она принесла очередную итальянскую новеллу для «Литературного приложения». Я сказал ей, что телеграф сообщил, что умер Брюсов, и показал только что сверстанное «Литературное приложение» с большим портретом В. Брюсова на обложке. Нина Ивановна как-то потемнела в лице, ничего не сказав, взяла «Литературное приложение» и долго-долго (как застыв) смотрела на Брюсова, потом тихо, даже будто с трудом, произнесла почему-то: «Да… Это он…». И отложила газету. Мне всегда казалось, что бедная Рената все жизнь любила Рупрехта, который жестоко разбил ее жизнь.
Когда «Накануне» кончилась, Нине Ивановне не на что стало жить, и она решилась на последнее: ехать в Париж в надежде, что ей поможет там глава Нансеновского комитета Василий Алексеевич Маклаков [77] и старый ее друг Владислав Ходасевич. Дело в том, что в дни молодости Нины Ивановны Маклаков (великий женолюб) без памяти был в нее влюблен и, как мне говорили сведущие люди, готов был будто бы даже на ней жениться. Но Нина Ивановна, жившая среди декадентов и создававшая из своей жизни «трепетную поэму» и «творимую легенду», блестящего Маклакова, тогда уже знаменитого адвоката, — отвергла. Он для нее был слишком «реален». Теперь же, через много десятилетий, Нина Ивановна (с Надей) уехала в Париж, надеясь на его помощь. Знаю, что в Париже она сразу же пришла в «офис» Маклакова, но, увы, Василий Алексеевич был только «формален», что-то посоветовал, куда-то направил, и все. Ходасевич же, сам перебивавшийся с хлеба на квас литературным заработком, тоже ничем существенным помочь не мог…
Ходасевич. Ее скитания заграницей известны мне не подробно. Знаю, что из Италии она приезжала в Варшаву, потом в Париж. Здесь, кажется в 1913 году, однажды она выбросилась из окна гостиницы на бульвар Сен-Мишель. Сломала ногу, которая плохо срослась, и осталась хромой.
Война застала ее в Риме, где прожила она до осени 1922 года в ужасающей нищете, то в порывах отчаяния, то в припадках смирения, которое сменялось отчаянием еще более бурным. Она побиралась, просила милостыню, шила белье для солдат, писала сценарий для одной кинематографической актрисы, опять голодала. Пила. Порой доходила до очень глубоких степеней падения. Перешла в католичество. «Мое новое и тайное имя, записанное где-то в нестираемых свитках San Pietro — Рената» писала она мне…
Осенью (1922 г. — И. Т.) появилась в Берлине… полубезумная, нищая, старая, исхудалая, хромая. 8 ноября, как раз накануне того дня, когда исполнилось одиннадцать лет со дня ее отъезда из России, они (Нина и Андрей Белый. — И. Т.) у меня встретились, вместе ушли и вместе провели вечер. Оба жаловались потом. Даже безумства никакого не вышло. С ними случилось самое горькое из всего, что могло случиться: им было просто скучно друг с другом. То было последнее на земле свидание Ренаты с Огненным Ангелом. Больше они не встречались…
Брюсова она возненавидела: «Я задыхалась от злого счастия, что теперь ему меня не достать, что теперь другие страдают. Почем я знала — какие другие, — Львову он уже в то время прикончил… Я же жила, мстя ему каждым движением, каждым помышлением».
Сюда, в Париж, она приехала весной 1927 года, после пятилетнего нищенского существования в Берлине. Приехала вполне нищей. Здесь нашлось у нее не мало друзей. Помогали ей, как могли и, кажется, иногда больше, чем могли. Иногда удавалось найти ей работу, но работать она уже не могла. В вечном хмелю, не теряя рассудка, она уже была точно по другую сторону жизни…
В дневнике Блока, под б ноября 1911 года, странная запись: «Нина Ивановна Петровская „умирает"». Известие это Блок получил из Москвы, но почему слово «умирает» он написал в кавычках?
Нина в те дни, действительно, умирала: это была та болезнь, перед отъездом из России, о которой я говорил выше. Но Блок слово «умирает» поставил в кавычки, потому что отнесся к известию с ироническим недоверием. Ему было известно, что еще с 1906 года Нина Петровская постоянно обещалась умереть, покончить с собой. Двадцать два года она жила в непрестанной мысли о смерти. Иногда шутила сама над собой:
Сейчас я просматриваю ее письма. 26 февраля 1925: «Кажется, больше не могу». 7 апр. 1925: «Вы, вероятно, думаете, что я умерла? Нет еще». 8 июня 1927: «Клянусь Вам, иного выхода не может быть». 12 сентября 1927: «Еще немного, и уж никаких мест, никакой работы мне не понадобится». 14 сентября 1927: «На этот раз я скоро должна скончаться».
Это — в письмах последней эпохи. Прежних у меня нет под рукою. Но всегда было то же — и в письмах, и в разговорах.
Что же удерживало ее? Мне кажется, я знаю причину.
Жизнь Нины была лирической импровизацией, в которой, лишь применяясь к таким же импровизациям других персонажей, она старалась создать нечто целостное — «поэму из своей личности». Конец личности, как и конец поэмы о ней, — смерть. В сущности, поэма была закончена в 1906 году, в том самом, на котором сюжетно обрывается «Огненный Ангел». С тех пор, и в Москве, и в заграничных странствиях Нины длился мучительный, страшный, но ненужный, лишенный движения эпилог. Оборвать его Нина не боялась, но не могла. Чутье художника, творящего жизнь, как поэму, подсказывало ей, что конец должен быть связан еще с каким-то последним событием, с разрывом какой-то еще одной нити, прикреплявшей ее к жизни. Наконец, это событие совершилось.