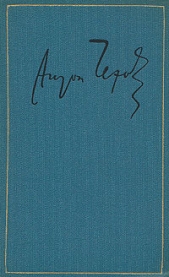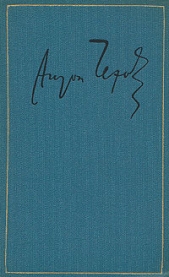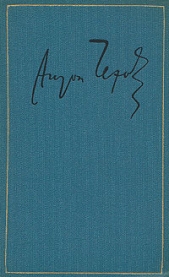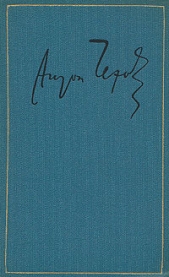Чехов. Жизнь «отдельного человека»
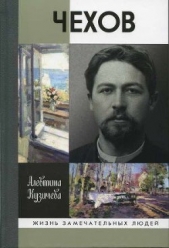
Чехов. Жизнь «отдельного человека» читать книгу онлайн
Творчество Антона Павловича Чехова ознаменовало собой наивысший подъем русской классической литературы, став ее «визитной карточкой» для всего мира. Главная причина этого — новизна чеховских произведений, где за внешней обыденностью сюжета скрывается глубинный драматизм человеческих отношений и характеров. Интерес к личности Чехова, определившей своеобразие его творческого метода, огромен, поэтому в разных странах появляются все новые его биографии. Самая полная из них на сегодняшний день — капитальное исследование известного литературоведа А. П. Кузичевой, освещающее общественную активность писателя, его личную жизнь, историю создания его произведений. Книга, выходящая в серии «ЖЗЛ» к 150-летию со дня рождения Чехова, рекомендуется к прочтению всем любителям и знатокам русской литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он говорил о французах, о французской печати, но одновременно о российских газетах и о русских, ругавших Золя, искавших врага в мировом еврействе, в «синдикате» и прочем: «Когда в нас что-нибудь неладно, то мы ищем причины вне нас и скоро находим: „Это француз гадит, это жиды, это Вильгельм…“» Однако за — «мы», «нас», «наше» — сначала угадывался, затем прямо был поставлен вопрос: как вести себя отдельному человеку, когда совесть его смущена, «взбаламучена», когда он чувствует, что его вовлекают в дурное, в несправедливое?
В «Маленьком письме» от 29 января (10 февраля) Суворин вспомнил процесс кальвиниста Жана Каласа, обвиненного в убийстве сына якобы за то, что тот хотел перейти в католичество, и казненного в 1762 году. Вольтер провел свое следствие и добился посмертного оправдания Каласа. Это был, по словам Суворина, «один из тех редких писательских подвигов, которым всемирная литература будет вечно гордиться». В действиях Золя он такого подвига не нашел. Но лишь шумное и запоздалое присоединение к обвинителям, которые будто бы использовали имя, известность Золя не для победы правосудия, а для победы над правительством и легенды о «мученике еврее».
Не касаясь рассуждений Суворина о том, что было вокругдела Дрейфуса и процесса Золя, Чехов, следуя своей логике и своему чувству, дал ответ на им же самим заданный вопрос: «Да, Зола не Вольтер, и все мы не Вольтеры, но бывают в жизни такие стечения обстоятельств, когда упрек в том, что мы не Вольтеры, уместен менее всего. Вспомните Короленко, который защищал мултановских язычников и спас их от каторги. <…> Пусть Дрейфус виноват, — и Зола все-таки прав, так как дело писателей не обвинять, не преследовать, а вступаться даже за виноватых, раз они уже осуждены и несут наказание. Скажут: а политика? интересы государства? Но большие писатели и художники должны заниматься политикой лишь настолько, поскольку нужно обороняться от нее. Обвинителей, прокуроров и жандармов и без них много <…>»
Чехов отбрасывал шелуху оправданий — «мы не Вольтеры» — и обнажал сердцевину: «И какой бы ни был приговор, Зола все-таки будет испытывать живую радость после суда, старость его будет хорошая старость и умрет он с покойной или по крайней мере облегченной совестью». В таком финале слышался отдаленный отзвук постоянных жалоб Суворина в письмах Чехову на ожидавшую его одинокую старость. Он очень часто писал об этом в дневнике: «старость безрадостная, скверная»; — «к старости, когда смотришь в могилу, нет никого, кто <…> берег бы»; — «желание работать не прошло еще, но силы надорваны. <…> Впрочем, я достиг таких результатов, о каких никогда не мечтал. За что-нибудь они даются, эти результаты, и это сознание успокаивает меня». Итак, Суворина успокаивали в его тоске «результаты» собственной деятельности. Чехов писал ему о «покойной или, по крайней мере, облегченной совести», как залоге «хорошей старости».
Чехов не преувеличивал влияния на Суворина своих писем о деле Дрейфуса и процессе Золя. Ковалевский вспоминал впоследствии разговор с Чеховым зимой 1898 года: «Суворин, как рассказывал мне Чехов, в ответ на одно из таких писем, написал ему: „Вы меня убедили“. „Никогда, однако, — прибавил Чехов, — ‘Новое время’ не обрушивалось с большей злобой на несчастного капитана, как в недели и месяцы, следовавшие за этим письмом“. — „Чем же объяснить это?“ — спросил я. „Не чем другим, — ответил Чехов, — как крайней бесхарактерностью Суворина. Я не знаю человека, более нерешительного и даже в делах, касающихся собственного семейства“».
За два дня до решения суда, приговорившего Золя «за клевету» к году тюрьмы и штрафу, Чехов написал Хотяинцевой: «Вы спрашиваете меня, всё ли я еще думаю, что Зола прав. А я Вас спрашиваю: неужели Вы обо мне такого дурного мнения, что могли усумниться хоть на минуту, что я не на стороне Зола? За один ноготь на его пальце я не отдам всех, кто судит его теперь в ассизах, всех этих генералов и благородных свидетелей. Я читаю стенографический отчет и не нахожу, чтобы Зола был неправ, и не вижу, какие тут еще нужны preuves [16]».
Почему Чехов не присоединил свой голос в поддержку Золя, как, например, упомянутый им в февральском письме Суворину норвежский писатель Бьёрнстьерне Бьёрнсон, начавший свое послание словами — «Все народы Европы…»? Может быть, потому, что речь шла не о конкретном участии в судебном процессе, как в случае — с Короленко, защищавшем невинных удмуртов, приговоренных к каторге за будто бы совершенное ими человеческое жертвоприношение. Может быть, по нелюбви к поступкам, похожим на жест вроде тех, что любил герой его рассказа «Соседи»? Власич, прочитав статью и пережив, как он выражался, очередную «честную, светлую минуту», отправлял письмо в редакцию всего с одной строчкой: «Благодарю и крепко жму руку!»
Над письмами в редакции — даже искренними; над публичными восторгами — даже по достойным поводам; над проникновенными юбилейными речами — даже своих добрых приятелей, Чехов подтрунивал. Письма читателей с восторгами в свой адрес и с общественным пафосом называл «захлебывающимися». Правда, к просьбе Михаила — написать, «как относится к Дрейфусу и Зола <…> обыкновенное обывательское общественное мнение, хотя в той же Ницце?» — Чехов отнесся без иронии: «Ты спрашиваешь, какого я мнения насчет Зола и его процесса. Я считаюсь прежде всего с очевидностью: на стороне Зола вся европейская интеллигенция и против него всё, что есть гадкого и сомнительного. <…> „Нов[ое] время“ ведет нелепую кампанию, зато большинство русских газет если и не за Зола, то против его преследователей».
Михаила Павловича интересовало мнение и жителей российской столицы. Старший брат написал ему в своем насмешливом стиле, что оставляет его в «неведении, ибо общество об этом ничего не думает. Думало, да перестало. У него своих мнений нет. Это стадо. Лучшие же люди думают так…». Далее Александр Павлович привел фрагмент письма Чехова к нему от 23 февраля (7 марта): «В деле Зола „Нов[ое] время“ вело себя просто гнусно. По сему поводу мы со старцем обменялись письмами (впрочем в тоне весьма умеренном) — и замолкли оба. Я не хочу писать и не хочу его писем, в которых он оправдывает бестактность своей газеты тем, что он любит военных, — не хочу, потому что всё это мне уже давно наскучило. Я тоже люблю военных, но я не позволил бы кактусам, будь у меня газета, в Приложении печатать роман Зола задаром, а в газете выливать на этого же Зола помои и за что? за то, что никогда не было знакомо ни единому из кактусов, за благородный порыв и душевную чистоту. И как бы ни было, ругать Зола, когда он под судом, — это не литературно».
В первый день марта Александр писал брату в Ниццу: «Старика видел третьего дня, спрашивал, нет ли вестей от тебя: получил в ответ, что давно уже он не читал от тебя ни одной строчки. Тон ответа — угрюмый, недовольный». Через две недели он рассказывал: «Старик С[уворин] так болен, что уже три дня не принимает к себе не только людей, но даже и писем. Ожидается катаклизм. Оргия кактусов-коршунов уже началась на тему: „Не стая воронов слеталась“… До чего они отвратительны!»
Теперь Чехов уже не говорил брату, как в былые годы, что в редакции нужна партия свежих сил, порядочных людей и т. п. Он соглашался, что и редакция, где господствовал Буренин, и театр Суворина, где царствовала Яворская, — это клоака. Переписка Чехова и Суворина уже давно будто «спотыкалась», теряла былой характер продолжающейся беседы, живого интереса. Они исчерпали свои отношения. Чехов, прозаик, драматург, терял в глазах Суворина ясные очертания. Он теперь вольно и невольно объединялся в его оценке с Бурениным, считавшим, что Чехов сбился с «правильного пути». Суворин, в глазах Чехова, кажется, сливался с его газетой, с семейным фоном, давно чуждыми Чехову. Их предстоящая встреча в Париже весной 1898 года упоминалась с сомнением.