Бывшее и несбывшееся
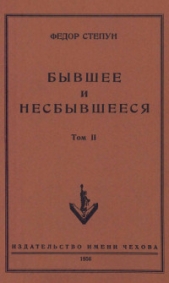
Бывшее и несбывшееся читать книгу онлайн
«Бывшее и несбывшееся» — мемуары выдающегося русского философа Федора Степуна, посвященные Серебряному Веку и трагедии 17-го года. По блистательности стиля и широте охвата их сравнивают с мемуарами Герцена и Ходасевича, а их философская глубина отвечает духу религиозного Ренессанса начала XX века и его продолжателям в эмиграции. Помимо собственно биографии Степуна читатель на страницах «Бывшего и несбывшегося» прикоснется к непередаваемо живому образу предреволюционного и революционного времени, к ключевым фигурам русского Ренессанса начала XX века, к военной действительности. Второй том полностью посвящен 17-му году: Степун был непосредственным участником тех событий. Артиллерийским прапорщиком он с фронта попадает в гущу тогдашней политики, становится начальником политуправления армии при Временном правительстве. Последние страницы мемуаров Степуна посвящены попыткам строить нормальную жизнь в новых советских условиях: театр в голодной Москве, сельскохозяйственная коммуна... Однако большевики изгонят Степуна из России. Степун предваряет свои мемуары следующими словами: «"Бывшее и несбывшееся" не только воспоминания, не только рассказ о бывшем, пережитом, но и раздумье о том, что «зачалось и быть могло, но стать не возмогло», раздумье о несбывшемся. Эта философская, в широком смысле слова даже научная сторона моей книги, представляется мне не менее важной, чем повествовательная. Я писал и как беллетрист, не чуждый лирического волнения, и как философ, как социолог и даже как политик, не замечая вполне естественных для меня переходов из одной области в другую. Близкий по своим философским взглядам славянофильски-Соловьевскому учению о положительном всеединстве, как о высшем предмете познания, я попытался подойти к нему в методе положительного всеединства всех методов познания. Врагами моей работы, с которыми я сознательно боролся, были: идеологическая узость, публицистическая заносчивость и эстетически-аморфное приблизительное писательство. [...] В противоположность туманно трепетным воспоминаниям, светлая память чтит и любит в прошлом не то, что в нем было и умерло, а лишь то бессмертное вечное, что не сбылось, не ожило: его завещание грядущим дням и поколениям. В противоположность воспоминаниям, память со временем не спорит; она не тоскует о его безвозвратно ушедшем счастье, так как она несет его непреходящую правду в себе. Воспоминания — это романтика, лирика. Память же, анамнезис Платона и вечная память панихиды, это, говоря философским языком, онтология, а религиозно-церковным — литургия».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вернувшись со светлым и торжествующим выражением лица, Олечка взяла меня под руку и повела наверх к тетке, в ее хорошо обставленную, всегда чисто прибранную, светлую квартиру. Анна Моисеевна встретила меня так же радушно, как час тому назад ее сестра, и тут же просто, ни минуты не кичась своей добротой, предложила, безо всякой заботы о скором возврате, взять у нее 50 долларов, иметь которые в те времена строго запрещалось и давать которые человеку, только что заявившему на допросе, что денег у него нет, было большим риском, так как Чека могла всегда заинтересоваться вопросом, откуда добыта валюта.
Сговорившись с Анной Моисеевной, что я через два дня зайду за деньгами, и горячо поблагодарив ее и всех Шоров за чудодейственно–быструю и щедрую помощь, я, не теряя времени, побежал в посольство сообщить, что самое позднее через неделю приду за паспортом, а оттуда домой.
То, что Анне Моисеевне с дочкой удалось вскоре после нас выбраться в Берлин, а мне — вернуть ей долг, да еще в минуту, когда ее материальное положение было не блестяще, а доллары в инфляционной Германии стояли очень высоко, принадлежит к большим утешениям моей жизни.
Когда все, подлежавшие продаже вещи были наскоро за бесценок спущены на Сухаревке, а деньги и паспорта лежали уже в кармане, мы с Наташей поехали в Ивановку. Ярко помня до сих пор все мелочи нашего отъезда из Ивановки на войну, я лишь смутно вспоминаю прощание перед отъездом за границу. Может быть, это объясняется тем, что образы, наполняющие душу, вытесняются из нее лишь другими, и более яркими образами. Со словом «война» я не связывал никаких конкретных представлений; войны, идя на войну, перед собою не видел, она была не образом перед глазами, а мелодией. Забытое же слово «Европа», вдруг громко произнесенное судьбою, с такою силою всколыхнуло в душе спавшие в ней образы, что настоящее как–то побледнело и рассеялось.
Боль разлуки, конечно, была, но не очень сильная. В те годы можно было еще переписываться с оставшимися и посылать им пакеты; оптимисты надеялись, что мы скоро вернемся, кое–кто из домашних даже советовал Наташе не раздавать заготовленных на зиму запасов муки, крупы, дров — самим пригодится, когда вернемся, ведь самый длинный срок административной высылки, — указывали оптимисты, — три года. Когда я на это отвечал, что при большевиках мы вряд ли вернемся, а они могут продержаться еще очень долго, надо мной смеялись. Один только Николай Сергеевич в тон мне с горечью сказал: «Когда вас вернут, Федор, не знаю, знаю только одно, что я вас больше уже не увижу, мы с вами прощаемся навсегда». Вспоминая эти слова, я живо вижу идущего рядом с медленно тянущейся в гору пролеткой, милого Николая Сергеевича. Его небольшая рука лежит на заднем крыле экипажа, а все еще горячие, блестящие, не только от природы, но уже и от склероза, глаза с вопрошающею грустью смотрят на дочь и на меня…
За несколько дней до нашего отъезда (точный срок отъезда нам сообщили почему–то лишь в последнюю минуту), Наташа написала в Ивановку матери, что мы пока еще в Москве и срока отъезда не знаем. Встревоженная Серафима Васильевна вдруг собралась и бросилась в Москву. Подъехала она к подъезду на Никитской час спустя после нашего отъезда! Как ни спешила на вокзал, она все же опоздала. Читая в Берлине ее первое письмо, я увидел ее, стоящую на платформе, растерянную, заплаканную, несчастную, с безответным вопросом в душе, куда же и к кому теперь идти?
День нашего отъезда был ветреный, сырой и мозглый. Поезд уходил под вечер. На мокрой платформе грустно горели два тусклых керосиновых фонаря. Перед неосвещенным еще вагоном второго класса уже стояли друзья и знакомые. Помню мучительную сложную боль этого прощального часа. Хорошо, что не было матери. Как и восемь лет тому назад, когда я Москвою проезжал из Сибири на Запад, она не решилась приехать проводить меня на вокзал. Мы простились с ней на даче, в Касимовке, без «свидетелей» и без «соболезнователей». Этого она не вынесла бы. Будь она на вокзале, я был бы крепко прикован не только к ее душе, но и к ее руке; не смог бы никому из пришедших сказать последнего слова, обменяться последним прощальным взглядом.
Но, если и не было мамы, то все же были все Степуны, братья и сестры, все как и она, сложные и ревнивые. Особенно нежен и взволнован был брат Липочка, спутник и друг студенческих лет.
Стоя среди своих, я вижу подходящую ко мне Нину Миракли. Тихая, бледная, в черном, она передает мне небольшое Евангелие. Перед глазами всплывают Неман, Вильно и ее небольшой дом в церковной ограде. Тема краткой Аниной жизни и смерти сразу же захватывает душу, но вот к вагону под руку с неистовой Варварой Массалитиновой бежит Миша Ленин. Варвара бурно целует меня и преподносит бутылку красного вина. От души благодаря ее и Мишу, я вижу, что ко мне уже приближается вольноопределяющийся 12–й Сибирской бригады. Душа сразу же наполняется воздухом галицийской компании. Мы горячо обнимаемся.
Чувствуя молча стоящую рядом со мной и молча зовущую меня к себе Нину, я все же не в силах оборвать разговора с товарищем по фронту. Он дружески жмет мне руку, просит, если случится встретить где–нибудь в Париже, или в Праге нашего общего друга по батарее, ушедшего с Белой армией, крепко расцеловать его.
Наконец, я подхожу к Нине, чтобы, быть может, навсегда проститься с ней, образ которой, как я тогда еще думал, никогда не покинет моей души. Сказать Нине на прощание то, что хотел сказать, я не успел, так как ко мне уже подходила Людмила. Я знакомлю Нину с Людмилой, которые, не зная друг друга, всё знают друг о друге. Они приветливо пожимают руки, но, я чувствую, что каждой хотелось бы, чтобы другой здесь не было.
Наташа внимательно следит за мной и, чувствуя всю трудность и сложность моего положения, старается помочь мне.
Когда я отхожу от своих, она переходит к Липочке и сестрам; с покинутым мною товарищем по батарее она вспоминает лагерную жизнь в Куртенгофе под Ригой, где наша бригада отдыхала и чинилась в 1915 г. Массалитинову с Мишей она, чтобы они не мешали мне, быстро уводит в вагон, посмотреть, как мы устроились. Только Нине она не в силах помочь…
Раздается второй звонок. Последние объятия, поцелуи, рукопожатия. Мы уходим в вагон и подходим к нераскрывающемуся окну. За грязноватым стеклом в уже густом вечернем сумраке лишь смутно виднеются знакомые лица. Еле различая их очертания, я все же как–то угадываю выражения их лиц и даже слышу, как мне, по крайней мере, кажется, слова прощания…
Быть может, мы на том свете будем без уст говорить друг с другом и без глаз смотреть друг на друга…
Третий звонок, свисток. Поезд вздрагивает и трогается. За окном тянутся цепи облезлых товарных вагонов; они скоро кончаются, вот уже плывут дома, улицы. Поезд ускоряет свой ход; мимо нас бегут поля, дачи, леса и, наконец, деревни одна за другой, близкие, далекие, черные, желтоглазые, но все одинаково сирые и убогие в бескрайных осенних полях…
Под окном мелькает шлагбаум. Куда–то вдаль, под темную лесную полосу отбегает вращаемое движением поезда, черное, среди только что выпавшего первого снега, шоссе… Вдруг в сердце поднимается страшная тоска — мечта, не стоять у окна несущегося в Европу поезда, а труском плестись по этому, неизвестно куда ведущему, шоссе…
22–го ноября закончился 26–й год пребывания за границей высланных из России ученых и общественных деятелей. Несколько человек из нас уже умерло на чужбине. В лице отца Сергия Булгакова и Николая Александровича Бердяева «первопризывная» эмиграция понесла тяжелую утрату.
Вернется ли кто–либо из нас, младших собратьев и соратников, на родину — сказать трудно. Еще труднее сказать, какою вернувшиеся увидят ее. Хотя мы только то и делали, что трудились над изучением России, над разгадкой большевистской революции, мы этой загадки все еще не разгадали. Бесспорно, старые эмигранты лучше знают историю революции и настоящее положение России, чем иностранцы. Но, зная прекрасно политическую систему большевизма и ее хозяйственное устройство, ее громадные технические достижения и ее непереносимые нравственные ужасы, ее литературу и науку, ее церковь, мы всего этого, по–настоящему, все же не чувствуем; зная факты и статистику, мы живой теперешней России перед глазами все же не видим. В голове у нас все ясно, а перед глазами мрак.


























