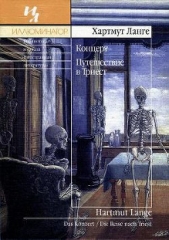Некрополь

Некрополь читать книгу онлайн
Борис Пахор (р. 1913) — один из крупнейших современных словенских писателей, произведения которого удостоены многих престижных европейских литературных премий. «Некрополь» — известнейший роман Б. Пахора, в котором воспоминания писателя о жизни узников фашистских концлагерей переплетаются с философскими размышлениями о мире и о непреходящих человеческих ценностях. Книга написана очень живым и образным языком, она захватывает читателя от первой до последней строки. «Некрополь» переведен на многие европейские языки. На русском языке публикуется впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я попытался уйти от этих стонов, но, наверное, не смог бы, если бы не случайное движение руки, поправившей цепочку, которая висела на моей шее. И тут я вспомнил, что эта цепочка была его, Младена. Это воспоминание не слишком отличалось от того, что возникло передо мной в мчавшемся грузовике в темноте ночи. В Дахау Младен избегал смотреть на вскрытия, а в Доре мы видели, как нож раскроил его сердце. Нет, не нужно мне думать о Младене, сказал я себе, а также и о том, что на мне его цепочка. Его отвезли на тачке к тлеющей куче в Доре, на вершине холма. И я опять подумал о юном чехе. Наверняка на нем тел тридцать, и он вряд ли еще дышит. И, конечно, было бы лучше, если бы он лежал в земле. Врач действовал правильно и мудро, тогда как я был слишком эмоционален. Прежде всего, я сопротивлялся самоуправству еще и потому, что санитар тоже в нем участвовал, уж слишком самоуверенно он себя вел. И правильно, что у них ничего не получилось; несмотря на все свои медицинские познания, врач не знал, что раз тело истощено, дело не выгорит так просто, как если бы шея была не худой, а округлой. Нелегко до конца уничтожить тело, которое уже наполовину одеревенело. Правда, я размышлял обо всем этом, чтобы не слышать накатывающихся волнами стонов, и чтобы они не травили мне душу, ведь нужно снова и снова мысленно абстрагироваться от смерти, если мы не хотим, чтобы она всосалась нам в мозг.
Чтобы отвлечься, я прислушался к разговору санитаров. Они договаривались о том, что на станции мы должны держаться все вместе, чтобы организовать в одном из вагонов временную амбулаторию. И Янош с этим согласился. А что, ведь не было ничего удивительного в том, что он поддержал эту разумную идею, и что его голос был таким свойским, скорее всего, мы его раньше несправедливо осуждали, что он, мол, груб с больными, которых перевязывал. Ведь совершенно ясно, что мы должны были остаться все вместе, если хотели спастись сами и помочь спастись еще кому-нибудь. Но потом на станции невозможно было держаться вместе, поскольку крики немцев-конвоиров одолевали нас со всех сторон. В Харцунгене мы отвыкли от криков, там все проходило неслышно. Нет, нет, мы совсем не переживали из-за этих воплей, ведь в конечном счете обычное дело, что немец всегда готов к крику, и кажется, будто он может в любой момент завыть от страха перед невидимым преследователем. К этому нужно привыкнуть, потом становится не так уж тяжело. Ну а тогда был крик из-за поезда, который нас ждал. Лучи карманных фонариков шныряли вдоль и поперек, в то время как мы сгребали узлы и тела с грузовика. Мы протягивали руки в темноту и стаскивали их через борт на носилки из проволоки, но тела проскальзывали мимо носилок, и кто-то вставал на такую подставку из костей, когда стаскивал с грузовика то, что попадалось под руку. Мы работали так лихорадочно всю ночь, под куполом красного неба, а когда на горизонте снова забрезжила полоска света, стало видно, как тела стаскивают с грузовика прямо вниз головой, так что по большей части они соскальзывают и шлепаются на перрон, а когда один из носильщиков наклонился, чтобы оттащить тело к поезду, с грузовика на него упал соломенный тюфяк и накрыл его.
Конвоиры продолжали хлестать плетьми из бычьих сухожилий и раздавать пинки носильщикам, метавшимся от грузовиков к поезду и от поезда снова к грузовикам. Непросто держаться вместе в такую суматоху у поезда, и из-за шарящих полосок света карманных фонариков видно хуже, чем если бы было по-настоящему темно. Мы старались сохранить спокойствие и тогда, когда нас криками загнали в разные вагоны, но как только поезд тронулся, мы снова вылезли и пошли в тот вагон, где уже находились другие санитары. И так, в конце концов, нам все же удалось перетащить туда и все узлы с повязками. Человек в таких ситуациях, как и всегда в жизни, должен знать, чего он хочет, должен иметь свой план и должен осуществлять его вопреки панике и неразберихе. Конечно, нелегко противостоять беспорядочной давке, когда тебя бьют то пучком лучей, то ременной плетью, в то время как где-то из чьих-то ртов слышатся крики о помощи, которые снова зовут тебя. Однако при всем этом самые несчастные — это те, которых волокут по перрону. Их стаскивают за руки и за ноги с грузовика в темноте и в полосах света, и счастье, если они уже бесчувственны и холодны, плоские как доски, в рубашках до бедер. А более вялое и мягкое тело безвольно перекручивается, когда тот, кто держит его за конечности и тащит за собой, в спешке прокладывает себе дорогу сквозь толпу бегущих теней. Ну а у тех, кому в этом хаосе удавалось не только бегать, но и организовать, как хотелось, медпункт в вагоне для скота, были такие большие преимущества выжить, что им не были страшны ни бешеные крики, ни удары.
Сколько дней затем продолжалось это путешествие? Шесть? Семь? Впрочем, время уже давно утратило значение, которое придают ему вращение и встреча небесных тел. Конец ночи означал лишь то, что мы снова будем видеть друг друга; солнце, показавшееся утром, просто освещало длинный ряд движущихся или стоящих вагонов. Нескончаемую череду открытых ящиков с двуногим грузом, крышей над которым было лишь немецкое небо. Состав шел полдня сначала в одном направлении, потом долго стоял, а затем опять двигался в противоположную сторону; потом опять стоял и ждал. Однажды состав остановился среди полей, где мы весь день и всю ночь закапывали сто шестьдесят трупов, и Янош руководил работой. Совершенно новая работа, такое случилось впервые за долгое время, если не считать несколько дней до нашего отъезда из Харцунгена, когда наши скелеты не отправились в печь. Первые два вагона были предназначены для покойников; те два, за локомотивом. Это захоронение, само по себе действо не из приятных, было все же неким признаком того, что отдаленный мир живых людей становится ближе. Тут не было ни бараков, ни колючей проволоки, а только луг, который апрельское солнце озаряло неясным светом, и это, конечно, не шло ни в какое сравнение с холодным светом рефлектора над столом для вскрытий. И несмотря на то, что двадцать пять или тридцать вагонов для скота уже неделю были без еды, а вагоны за локомотивом быстро заполнялись, утешением было то, что солнце, небо и природа были не за решеткой и безграничны.
Эту перемену, должно быть, ощущал и Янош, так что, несмотря на ночную работу, он выпрыгнул из вагона бодрый и подвижный, словно рожденный заново, как будто и из нашей испорченной материи вырвалась искра жизни и персонифицировалась в нем. Так что благодаря утреннему свету и Яношу встал и я, хотя мне больше хотелось остаться под шерстяным одеялом в углу крытого вагона. Несмотря на давку и неразбериху, мы сами выбрали для себя такой вагон. «Помоги мне», — сказал Янош, у вагона стоял подросток поляк, поддерживая левой рукой серую правую, в то время как Янош ее осматривал. Тонкий, пятнадцатилетний, с обритой головой, весь бледный и зеленый, поскольку пять дней и шесть ночей ничего не ел. Чуть раньше стреляли эсэсовцы, это произошло из-за того, что из наших вагонов доходяги побежали к вагону с картошкой, который в одиночестве стоял на соседней платформе. Парнишка был среди них, и пуля прошила ему локоть. «Смотри, поганец, как ты испачкался», — злился Янош, как будто мир сразу же устроился, если бы простреленная рука была чистой. Он налил дезинфицирующую жидкость в амбулаторное блюдце и дал мне, чтобы я его держал. «Смотри, какой ты замарашка», — ворчал он при этом, а парнишка трясся мелкой дрожью, серо-фиолетовый, с выпирающим острым подбородком. «Бог знает, есть ли у него где-нибудь мать, но хорошо, что она его сейчас не видит», — подумал я, и в то же время был доволен, что мы оказались такими предусмотрительными и унесли с собой ту посуду, и бутылочки, и необходимые инструменты.
Мне нравился Янош. Он был совсем другим, чем в лагере, и вовсе больше не казался надменным, его сапоги, из-за которых прежде плохое впечатление о нем усиливалось, сейчас делали его в наших глазах (ни у кого не было военных сапог) еще более крепким и неутомимым. Кто знает, откуда он взял эту обувь, его лагерное прошлое наверняка было очень пестрым, но сейчас, когда он так по-отечески ворчал на парня, это не имело значения. Когда же мимо проходил унтершарфюрер с худощавым и мрачным лицом, Янош мгновенно изменился. Он резко оглянулся и позвал его подойти поближе и осмотреть локоть. «Так рано на работе», — сказало худощавое лицо и хитро осклабилось. «Свинство, — воскликнул Янош, — из-за двух картофелин, когда они ничего не ели пять дней». Унтершарфюрер сказал, чтобы он вел себя поосторожнее, но при этом он явно был в замешательстве, поскольку не ожидал такого нападения; отчасти же из-за того, что в отношении эсэсовцев к санитарам всегда примешивалось некоторое уважение; как будто они не могли не удивляться, что мы возимся с больными, которые стали такими в мире крематория. «Зачем же их выпускают из вагонов, если потом стреляют в них», — еще крикнул Янош, когда эсэсовец уходил, а тот только махнул рукой и ухмыльнулся себе под нос. В воздухе ощущался близкий конец, и, может быть, этому человеку инстинктивно даже немного понравилось, что среди стольких тел, которые своим умиранием молча осуждают его народ, одно осуждает его вслух. Но кто знает, возможно, это была ухмылка человека, который уже слышит хлопки винтовочных выстрелов и видит себя у этой расстрельной стены. «Если не больно, то все», — сказал Янош о руке, которую дезинфицировал ему бережно, как маленькому братику, сыну далекой родины. А парнишка даже не моргнул, в нем не было ни чувств, ни мыслей, но, если бы ему дали погрызть сырую картофелину, может быть, он и посмотрел бы на продырявленный локоть, подумал я. Из двух кусков он был, его локоть, как болванчик, который благодаря кожному покрову может вертеться во все стороны, и Янош укутал его в полосу белой бумаги с такой любовью, с какой мать перепеленывает младенца. «Нет, такого я от него не ожидал», — думал я, когда мы подняли парня в вагон, и Янош прикрикнул на бедняг, которые лежали на полу и возражали против этого, мол, у парня дизентерия. «Я вам дам дизентерию!» — прикрикнул он.