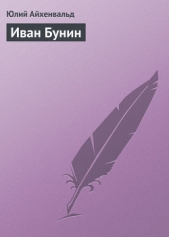Иван Бунин

Иван Бунин читать книгу онлайн
Публикуемая в серии «ЖЗЛ» книга Михаила Рощина о Иване Алексеевиче Бунине необычна. Она замечательна тем, что писатель, не скрывая, любуется своим героем, наслаждается его творчеством, «заряжая» этими чувствами читателя. Автор не ставит перед собой задачу наиболее полно, день за днем описать жизнь Бунина, более всего его интересует богатая внутренняя жизнь героя, особенности его неповторимой личности и характера; тем не менее он ярко и убедительно рассказывает о том главном, что эту жизнь наполняло.
Кроме «Князя» в настоящее издание включены рассказ Михаила Рощина «Бунин в Ялте» и сенсационные документы, связанные с жизнью Бунина за границей и с историей бунинского архива. Документы эти рассекречены недавно и публикуются впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бунин не изучал, подобно Пастернаку, философии в Москве и Марбурге, вообще мало теоретизировал, — его наитие, природный дар сами вели его верным путем: не игра в форму, не замена условностью реальности, а поиск простоты, искренности, поиск «метафоры в природе», переход от «приемов» и рутинных принципов в прозе ко все более открытому, «очерково-дневниковому авторскому „я“» вместо нагружения этим авторским «я» измышленных героев, искренность и исповедальность поэта — вот его путь в прозе. Можно только дивиться тому, как устроен был его чувствующий аппарат, — постичь этого все равно не дано: тайна.
В статье Иосифа Бродского «Поэт и проза» есть слова: «Отбрасывание лишнего, само по себе, есть первый крик поэзии — начало преобладания звука над действительностью, сущности над существованием: источник трагедийного сознания».
Бунин краток не ради краткости, а оттого, что в жизни, если вглядеться, все кратко, мимолетно, мгновенно. Он часто отсекает начало «истории» и как бы с конца начинает, с финала, потому что знает эту жизненную обычность: стянуть все в последний узел, к последней точке, — а все нагроможденное до того, сама эта «история» мало обязательны для искусства, для поэзии.
Еще из статьи Бродского, опирающегося в основном на прозу Цветаевой: «Со дня возникновения повествовательного жанра любое художественное произведение — рассказ, повесть, роман — страшатся одного: упрека в недостоверности. Отсюда — либо стремление к реализму, либо композиционные изыски. В конечном счете каждый литератор стремится к одному и тому же:,настигнуть или удержать утраченное или текущее Время. У поэта для этого есть цезура, безударные стопы, дактилические окончания; у прозаика ничего такого нет. Обращаясь к прозе, Цветаева вполне бессознательно переносит в нее динамику поэтической речи — в принципе, — динамику песни, — которая сама по себе есть форма реорганизации Времени… какова бы ни была тема повествования, технология его остается той же самой. К тому же повествование ее, в строгом смысле, бессюжетно и держится, главным образом, энергией монолога».
Как нельзя более, кажется, относится это и к бунинской прозе: несомненны ее монологичность и неповторимость интонации, — музыка его прозы.
И еще одно соображение Бродского: «…дело в различиях между искусством и действительностью. Одно из них состоит в том, что в искусстве достижима — благодаря свойствам самого материала — та степень лиризма, физического эквивалента которому в реальном мире не существует. Точно таким же образом не оказывается в реальном мире и эквивалента трагическому в искусстве, которое — трагическое — суть оборотная сторона лиризма — или следующая за ним ступень».
Весьма подходит тоже Бунину! «Реалист» Бунин, обладающий чувством и проникновением в космическую цельность мира, отказывается от его линейности, прямолинейности: его художественный мир отрывочен, фрагментарен, эпизодичен, высоко лиричен и столь же трагичен: покоя и порядка в нем нет.
Мы уже говорили, он писал рассказы как стихи: на выплеск, сжато, точно, на одном дыхании.
Читатели и критика изрядно удивлялись (да и писатели тоже), когда видели, что Бунин часто печатает свои вещи в символистских изданиях — «Золотое руно», «Перевал», «Корабли», «Факел», «Гриф», «Шиповник». При том, что одни хвалили его за «модернизм», другие — за верность традициям. И ругали, соответственно, — за то же.
Самого Бунина это не смущало. Он дело делал.
Стиль Бунина всегда узнаешь и ни с кем не спутаешь. Напряжение, высокая нота его фразы, особые сложносоставные эпитеты, пристрастие к оксюморону (холодный пламень, горячий лед и т. п. — несовместимость, сшибка противоположных понятий, дающих неожиданный эффект) — таковы его отличия. Кстати, об этом много и подробно сказано в одном из лучших исследований о писателе — книге Юрия Мальцева («Иван Бунин», Посев, 1994).
Другое дело, что он не впадал в отчаяние декаданса, не фантазировал на темы то прошлого, то будущего, то потустороннего, не уходил от жизни в чистое искусство, в условность, в чистую форму. Он просто писал по-своему, и это уже было ново, странно, непривычно. Он с младых ногтей занят был тем, как писать, — какие же еще нужны искусственные поиски? Его форма рождалась всегда слитно с содержанием, образуя единый сплав, один стиль.
Он слышал музыку времени, — она была иной, чем прежде.
Бунин сжимает и сжимает прозу: «сгущенный бульон» уже кажется ему не так крепок, он свивает слова в пружину, он приходит к самоценности всего одной фразы, к емкости назывных предложений, к самодостаточности блестяще исполненного фрагмента. Является многозначность подтекста, как у более поздних писателей нового века. Прорывается то и дело почти киношный, сценарный стиль. Характеристики, портреты все суше, строже. Давно отставлены в сторону «за-вязка-кульминация-развязка»; никаких экспозиций, лишних описаний. Рассказ может начаться с финала, автор — перейти в «я» героя или, наоборот, писатель сосредоточен на мысли, на самом главном, говорит как бы только сам с собою, мало заботясь о бегущем за ним вниманием читателя. Так впоследствии будет писать Фолкнер. Из друзей-противников — только Сологуб, Мандельштам, Пастернак. Позже — Булгаков, Платонов, затем и многие из советских писателей.
Конечно, это совсем новая проза. Отчего же Бунин так сердит на декадентов, не сходится с ними, злится?
Он движется своим путем, — как убежден, самым верным. То, что он делает, — не формалистика, не игра в литературу, не подмена реальности лишь отображением представления о ней, он хочет быть правдивым до конца, реалистом до конца, ему не до фокусов. Поэтому он суров и строг. Он рыцарем стоит на страже русского стиха, ненавидит все эти «дыр-бул-щир».
Между прочим, в «Грасском дневнике» Галины Кузнецовой (еще не раз придется обратиться к нему) есть такое место о стихах Ивана Алексеевича: «…изумилась тому, как мало у него любовной лирики и вообще своего, личного в поэзии. За все время четыре-пять стихотворений, в которых одной, двумя строками затронута любовная тема. Спросила его об этом. Говорит, что никогда не мог писать о любви, по сдержанности и стыдливости натуры, и по сознанию несоответствия своего и чужого чувства… Я много думала над этим и пришла к заключению, что непопулярность его стихов — в их отвлеченности и скрытности, прятании себя за некой завесой, чего не любит рядовой читатель, ищущий в поэзии прежде всего обнажения души…»
Вероятно, это дельное и близкое к истине замечание. Но неисповедимы пути творчества! — кто может знать, — и сам творец стихов не знает, — возможно, так предопределено было свыше: не обнажить душу даже в стихах, чтобы сделать это с огромной силой в будущей прозе! Писатель лучше знает свой путь, верит своему наитию, и — в конце концов выигрывает! А как и когда — не суть важно.
История произвела свой водораздел: мы не причисляем к декадентам, — к целой плеяде талантливейших русских поэтов, прозаиков, философов, составивших собою то, что называется теперь «Серебряный век», — ни Л Н. Толстого, ни Ф. Достоевского, ни А. Чехова, ни М. Горького, ни Бунина.
Казалось бы, шли все вместе, жили и работали в одну эпоху, шли тесно, плечо в плечо, но история отчего-то отделила «чистых» от «нечистых». Хотя, возможно, есть какая-то ошибка в этом слишком строгом счете, и мы, уже далекие потомки, продолжаем твердить то, что утверждалось и канонизировалось чопорной и малограмотной послереволюционной, «красной» критикой, просто мстившей русскому авангарду, поскольку весь цвет его, — кто сам, а большинство не по своей воле, — оказался после революции в изгнании, в эмиграции, гордо держал голову, не преклоняя ее пред узурпаторской властью Ленина-Сталина.
Судьба в этом смысле слегка поиздевалась над Буниным: в конце концов ему пришлось провести вторую часть жизни среди тех и с теми, кого он так резко не хотел принять в дореволюционную пору.
Впрочем, и потом он продолжал стоять на своем, принципы его не изменились.
Очень трудно согласиться с Буниным, не принимавшим напрочь многих современных ему поэтов. Все же, сам поэт, знаток поэзии и литературы, как мог не принять и свысока смотреть на Блока, Белого, Цветаеву, Ахматову, Мандельштама, Волошина, Георгия Иванова, Ходасевича, Пастернака. Ругал футуристов и Маяковского, но не видеть в Маяковском поэта вообще — как можно? Могла не нравиться Зинаида Гиппиус, обзывал ее мошенницей, — но как не оценить, не отметить таланта и души Цветаевой? не чувствовать Ахматову?.. Какое-то чрезмерное предубеждение. Оценил и принял Твардовского, — написал добрые слова о «Василии Теркине», и как же при том ругательски ругать Есенина?.. Ни слова лестного о Гумилеве, Мандельштаме, Пастернаке, будто их вовсе не существовало, но они были, были! уж вровень-то стояли с ним, — нет, молчание, отказ, неприятие. При том есть одно письмо Бунина (1950) Л. Ржевскому, — о чем сообщил лучший у нас исследователь биографии Бунина А. Бабореко, — где сказано: «Естественно, — пишете вы, — что „реалист Бунин не приемлет символизма Блока“! Называть меня реалистом, значит… не знать меня как художника. „Реалист Бунин“ очень и очень приемлет многое в подлинной символической мировой литературе».