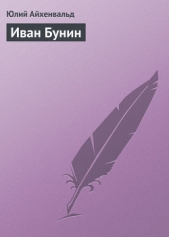Иван Бунин

Иван Бунин читать книгу онлайн
Публикуемая в серии «ЖЗЛ» книга Михаила Рощина о Иване Алексеевиче Бунине необычна. Она замечательна тем, что писатель, не скрывая, любуется своим героем, наслаждается его творчеством, «заряжая» этими чувствами читателя. Автор не ставит перед собой задачу наиболее полно, день за днем описать жизнь Бунина, более всего его интересует богатая внутренняя жизнь героя, особенности его неповторимой личности и характера; тем не менее он ярко и убедительно рассказывает о том главном, что эту жизнь наполняло.
Кроме «Князя» в настоящее издание включены рассказ Михаила Рощина «Бунин в Ялте» и сенсационные документы, связанные с жизнью Бунина за границей и с историей бунинского архива. Документы эти рассекречены недавно и публикуются впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но далее происходит новая встреча с Ликой, в поезде, ночь близости. Кажется, счастье. Но… «это было счастье нелегкое, изнурительное и телесно и душевно». Он любит ее, ждет, ревнует, она медленно, но верно остывает, устает.
Его продолжают мучить неопределенность, зыбкость, непонимание. Он хочет писать, работать, — как написано это в вышеприведенном письме. «Потом все чаще стало мелькать в уме: о такой ли жизни я мечтал! Вот я, может быть, в самой лучшей поре своей, когда весь мир должен быть в моем обладании, а я не обладаю даже калошами! Все это только пока, теперь? Ну а что впереди? Мне стало казаться, что далеко не все благополучно и в нашей близости, в согласованности наших чувств, мыслей, вкусов, а значит, и в ее верности: этот „вечный раздор между мечтой и существенностью“, вечную неосуществимость полноты и цельности любви я переживал в ту зиму со всей силой новизны для меня и как будто страшной незаконности по отношению ко мне». Как он в самом деле еще молод, хотя кажется себе взрослым! Как проявляется и прорывается его нелегкий даже ему самому характер!..
Бунин замечательно фиксирует разницу их натур, взглядов, с тончайшей психологической точностью, наблюдательностью. Он ничего не позабыл, не пробросил походя. «— Ты только о себе думаешь, хочешь, чтобы все было только по-твоему, — сказала она раз. — Ты бы, верно, с радостью лишил меня всякой личной жизни, всякого общества, отделил бы меня ото всех, как отделяешь себя…
И точно: по какому-то тайному закону, требующему, чтобы во всякую любовь и особенно любовь к женщине, входило чувство жалости, сострадающей нежности, я жестоко не любил — особенно на людях — минут ее веселости, оживления, желания нравиться, блистать — и горячо любил ее простоту, тишину, кротость, беспомощность, слезы, от которых у нее тотчас же по-детски вспухали губы. В обществе я, действительно, чаще всего держался отчужденно, недобрым наблюдателем, втайне даже радуясь своей отчужденности, недоброжелательности, резко обострявшей мою впечатлительность, зоркость, проницательность насчет всяких людских недостатков. Зато как хотел я близости с ней и как страдал, не достигая ее!»
Бунин не стесняется признания в своей ревности, подозрительности, — таков его опыт, его знание жизни и людей!..
Последующие сцены еще интереснее, взяты наверняка близко к натуре.
«Я часто читал ей стихи.
— Послушай, это изумительно! — восклицал я. — „Уноси мою душу в звенящую даль, где, как месяц над рощей, печаль!“
Но она изумления не испытывала.
— Да, это очень хорошо, — говорила она, уютно лежа на диване, подложив обе руки под щеку, глядя искоса, тихо и безразлично. — Но почему „как месяц над рощей“? Это Фет? У него вообще слишком много описаний природы.
Я негодовал: описаний! — пускался доказывать, что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни. Она смеялась:
— Это только пауки, миленький, так живут!
Я читал:
Она спрашивала: — Какие змеи?
И нужно было объяснять, что это — метель, поземка…
Я нередко рассказывал ей о своем детстве, ранней юности, о поэтической прелести нашей усадьбы, о матери, отце, сестре: она слушала с беспощадным безучастием».
Поэту нужен слушатель, сподвижник, все понимающий и чувствующий, как он сам. Варя Пащенко была девушкой земной, практической, поэзия и литература были для нее слишком высокими материями.
Но зато она любила театр и сама участвовала в любительских спектаклях. Вообще мечтала стать актрисой.
В «Лике» есть убийственные страницы на этот счет.
«Она уверяла себя в своей страстной любви к театру, а я ненавидел его, все больше убеждался, что талантливость большинства актеров и актрис есть только их наилучшее по сравнению с другими умение быть пошлыми, наилучше притворяться по самым пошлым образцам творцами, художниками. Все эти вечные свахи в шелковых повойниках лукового цвета и турецких шалях, с подобострастными ужимками и сладким говорком изгибающиеся перед Тит Титычами, с неизменной гордой истовостью откидывающимися назад и непременно прикладывающими растопыренную левую руку к сердцу, к боковому карману длиннополого сюртука; эти свиноподобные городничие и вертлявые Хлестаковы, мрачно и чревно хрипящие Осипы, поганенькие Репетиловы, фатовски негодующие Чацкие, эти Фамусовы, играющие перстами и выпячивающие, точно сливы, жирные актерские губы; эти Гамлеты в плащах факельщиков, в шляпах с кудрявыми перьями, с развратно-томными, подведенными глазами, с черно-бархатными ляжками и плебейскими плоскими ступнями, — все это приводило меня просто в содрогание! А опера! Риголетто, изогнутый в три погибели, с ножками раз навсегда раскинутыми врозь вопреки всем законам естества и связанными в коленках. Сусанин, гробно и блаженно закатывающий глаза к небу и выводящий с перекатами: „Ты взойдешь, моя заря“, мельник из „Русалки“ с худыми, как сучья, дико раскинутыми и грозно трясущимися руками, с которых, однако, не снято обручальное кольцо, и в таких лохмотьях, в столь истерзанных, зубчатых портках, точно его рвала целая стая бешеных собак! В спорах о театре мы никогда ни до чего не договаривались: теряли всякую уступчивость, всякое понимание друг друга. Вот знаменитый провинциальный актер, гастролируя в Орле, выступает в „Записках сумасшедшего“, и все жадно следят, восхищаются, как он, сидя на больничной койке, в халате с неумеренно небритым бабьим лицом, долго, мучительно долго молчит, замирая в каком-то идиотски-радостном и все растущем удивлении, потом тихо, тихо подымает палец и наконец, с невероятной медленностью, с нестерпимой выразительностью, зверски выворачивая челюсть, начинает слог за слогом: „Се-го-дня-шне-го дня…“ Вот, на другой день, он еще великолепнее притворяется Любимом Торцовым, а на третий — сизоносым, засаленным Мармеладовым: „А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным?“… Каждый раз после такого вечера в театре мы с ней кричим друг на друга, не давая спать Авиловой, до трех часов ночи, и я кляну уже не только гоголевского сумасшедшего, Торцова и Мармеладова, но и Гоголя, Островского, Достоевского».
Стоит отметить, что именно такой театр не принял чеховской «Чайки», не мог ее исполнить, и востребовались Станиславский и Немирович, чтобы сделать иной театр. Напиши Бунин вдруг пьесу, ее бы постигла участь «Чайки».
«…Я мог казаться гораздо хуже, чем был. Я жил напряженно, тревожно, часто держался с людьми жестко, заносчиво, легко впадал в тоску, в отчаяние; однако легко и менялся, как только видел, что ничто не угрожает нашему с ней ладу, никто на нее не посягает: тут ко мне тотчас возвращалась вся прирожденная мне готовность быть добрым, простосердечным, радостным».
Прекрасно пишет Бунин провинциальный бал, и себя, и ее, затем, с не меньшим ядом, чем о театре, рассказывает и о любительском драмкружке, где участвует Лика, и о любительском спектакле.
Все не нравится ему, — все, что отнимет ее у него.
Варвара Пащенко, девушка в пенсне, была дитя своей эпохи, декаданса, свободы, вседозволенности, эпатажа, высокомерия ко всему «старому», гордыни и любви лишь к себе самой, — полна того, что коробило и мучило Бунина с его дворянской щепетильностью и презрением к новым веяниям, всякому излому и неправде. Варя играла свою игру, она открыто искала, где и что лучше, уставала от обыденного и рутинного. Мечтала о блеске и благополучии.
«…Теперь у меня было еще одно страдание, еще одна горькая „неосуществимость“. Я опять стал кое-что писать, — теперь больше в прозе, — и опять стал печатать написанное. Но я думал не о том, что я писал и печатал. Я мучился желанием писать что-то совсем другое, совсем не то, что я мог писать и писал: что-то то, чего не мог. Образовать в себе из даваемого жизнью нечто истинно достойное писания — какое это редкое счастье! — и какой душевный труд!..»