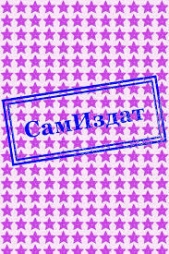Марина Цветаева. Жизнь и творчество
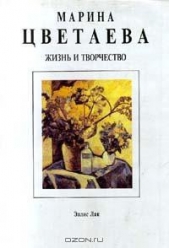
Марина Цветаева. Жизнь и творчество читать книгу онлайн
Новая книга Анны Саакянц рассказывает о личности и судьбе поэта. Эта работа не жизнеописание М. Цветаевой в чистом виде и не литературоведческая монография, хотя вбирает в себя и то и другое. Уникальные необнародованные ранее материалы, значительная часть которых получена автором от дочери Цветаевой — Ариадны Эфрон, — позволяет сделать новые открытия в творчестве великого русского поэта.
Книга является приложением к семитомному собранию сочинений М. Цветаевой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
(тени на лице умершего) — и дальше: воспоминания о его словах:
Перемежаются, сменяются видения: "жидкая липь, липкая жидь кладбища (мать): — садика" — тело хоронят в этой жидкой глине — но ведь "человек — глина есть…" И слово бык, не уходящее из сознания поэта, который хоронит добровольца: "- Ясное дело! При чем — бык? Просто на мозг кинулось". Глина — лейтмотив поэмы и ее главная декорация. Старая мать, шествующая на кладбище "в глинище по щиколотку". Глина — трехгодового мытарства добровольца: похода, отхода и исхода:
А вслед сапогам чмокают копыта: "Я — большак, Большевик, Поля кровью крашу. Красен — мак, Красен — бык, Красно' — время наше!" И вновь глина — "на французских каблуках Матери". Два "глиняных" похода: сына и матери. Такова эта поэма — очередная дань романтической белой идее, никогда не погаснувшей в поэте. Летом она оживет в новой поэме.
"На вид и по всему — 18". Это о "герое" "Красного бычка".
А рядом был настоящий восемнадцатилетний: живой и внимающий.
Ее записки к Тройскому: "- Завтра я ухожу в 5 ч., если успеете, зайдите утром, т. е. до 2 1/2 ч. Или уже в среду… Как-нибудь расскажу Вам и о Вас… Такой рассказ требует спокойного часа. Лучше всего на воле, на равных правах с деревьями.
Та'к — а может быть и что' — Вам скажу, Вам никто не скажет. Родные не умеют, чужие не смеют. Но не напоминайте: само, в свой час" (2 апреля), "…очень хочу, чтобы Вы научили меня снимать… Мур растет… Приходите как только сможете… Побеседовали бы о прозе Пастернака и сговорились бы о поездке и снимании" "1 апреля 1928". Тройский стал ее спутником в прогулках по Медонскому лесу; ездили в Фонтенбло, в Версаль ("Я не была ни в Fontainebleau, ни в Мальмозэне — нигде. Очень хочу" (2 апреля).
Подобно тому как в Чехии она увлеклась вязаньем, "шерштью", так теперь — фотографированьем. Сохранилась целая россыпь любительских фотографий той поры, сделанных Тройским и Мариной Ивановной…
Она "дарила" своему юному другу самое ценное: своих замечательных друзей, она все время поднимала его до себя, верила в его силы.
Записка от 19 апреля:
"Дорогой Николай Павлович,
Жду Вас не в субботу, а в воскресенье (Волконский), к 4 ч., с тем, чтобы мы, посидев или погуляв с Сергеем Михайловичем и проводив его на вокзал, остаток вечера провели вместе… Захватите тетрадь и готовность говорить и слушать".
Она приглашала Тройского на вечер А. Ремизова,
"большого писателя и изумительного чтеца… Хочу… чтобы Вы после Волконского услышали Ремизова, его полный голос… В Ремизове Вам дана органика (рожденность, суть) обратная органике Волконского. Точки (В<олконского> и Р<емизова>) чужды, дело третьего, Вас, круга — в себе — породнить. Ничего полезнее растяжения душевных жил, — только так душа и растет!" (23 апреля).
Что означало это почти всегда неизменное "Вы" Гронскому — при "ты" Бальмонту, Пастернаку и Рильке? Быть может, Гронский виделся ей рыцарственным юношей, наподобие вахтанговца Владимира Алексеева из Москвы ее молодости; а может, этим "Вы" она взрослила его, — взращивала и взрослила… Как та раковина ее стихотворения, что растила жемчуг в недрах своей души — повторение истории с Александром Бахрахом, с тою разницей, что тогда общение было заочное.
В апреле Марина Ивановна смогла убедиться в том, что существует круговая порука человечности.
Борис Пастернак, ее "заоблачный брат", обладавший притом даром абсолютно земного участия и сострадания, сделал так, что у Цветаевой появилась новая благотворительница, которая, наподобие Саломеи Николаевны, стала помогать ей материально. Это была Раиса Николаевна Ломоносова, жена Ю. В. Ломоносова, инженера и профессора, работавшего в Министерстве путей сообщения, по тем временам состоятельного человека. Уже год, как их семья, после очередной командировки, осталась за границей. Пастернака с Ломоносовой письменно свел Корней Чуковский; об этом Борис Леонидович рассказал в письме к Святополк-Мирскому, а тот переслал его "на прочтение" Марине Ивановне. 5 апреля Пастернак написал Р. Н. Ломоносовой письмо с просьбой: сообщить, кому бы из ее близких он мог бы передать сто рублей, и "только в таком случае" перевести такую же сумму Марине Цветаевой. И прибавлял:
"Она самый большой и передовой из живых наших поэтов, состоянье ее в эмиграции — фатальная и пока непоправимая случайность, она очень нуждается и из гордости это скрывает, и я ничего не писал еще ей о Вас, как и Вам пишу о ней впервые".
Р. Н. Ломоносова немедленно отозвалась на просьбу Пастернака, ибо уже 20 апреля Марина Ивановна послала ей благодарственное письмо, где, в частности, писала о Пастернаке:
"- Да, Пастернак мой большой друг и в жизни и в работе. И — что самое лучшее — никогда не знаешь, кто в нем больше: поэт или человек? Оба больше!
Редчайший случай с людьми творчества: хотя, по-моему, — законный. Таков был и Гёте — и Пушкин — и, из наших дней, Блок".
"РАВЕНСТВО ДАРА ДУШИ И ГЛАГОЛА — ВОТ ПОЭТ" ("Поэт о критике", 1926 г.).
Ломоносова, Саломея Андроникова, чешская субсидия, скуднейшие гонорары за напечатанные вещи (последняя — "Попытка комнаты" в 3-м номере "Воли России")… Несколько источников сведения концов с концами, и каждый — унизителен: напоминания, волнения, просьбы, негодование. Счастье — если вообще можно назвать это счастьем — состояло в том, что у Марины Ивановны была своего рода атрофия чувства униженности именно перед этими проблемами. Для Поэта, дающего людям то, что не измеряется никакими оплатами, — для Марины Цветаевой, по высшему счету, источники существования обязаны были находиться. Она, конечно, столь прямолинейно рассуждать не могла — это говорим мы теперь, из будущего, — но некое подобное ощущение в ней все же, по-видимому, было. И тогда включались другие резервы ее могучей личности, и она предпринимала борьбу за существование (почти беспрерывную, впрочем!) и вовлекала в эту борьбу тех, кто мог ее поддержать. Так, уже в конце апреля — начале мая она затеяла хлопоты с устройством своего вечера — единственная возможность на вырученные деньги поехать к морю, притом на этот раз — на юг, где не была с 1917 года, когда ездила в Коктебель к Волошину. У Мура уже несколько месяцев не проходил кашель, Сергей Яковлевич еле таскал ноги (туберкулез, болезнь печени) и был истощен. Вечер предполагалось назначить на 17 июня, а билеты распространялись намного заранее, — при помощи друзей, доброхотов и просто знакомых.
Мы еще не сказали о том, что к цветаевским друзьям можно было отнести Веру Николаевну Бунину (Муромцеву), хотя личных встреч, а познакомились они, вероятно, весной 1928 года, у них было мало. "Вера Муромцева" и "жена Бунина" для Марины Ивановны были "два разных человека, друг с другом незнакомых", о чем она так прямолинейно и отчеканила в одном из писем к ней. К Вере Муромцевой всегда можно было обратиться за помощью, например, — распространить те же билеты на вечер. А кроме того, обнаружилось, что Вера Николаевна явилась неким соединительным звеном между прежней, безвозвратно канувшей жизнью в России, и теперешней: она знала семью Иловайских и была связана в молодости с цветаевским домом в Трехпрудном. Будучи старше Цветаевой на одиннадцать лет, она как бы целиком вышла из мира "отцов", вечно притягательного цветаевскому сердцу. "Этих времен никто не знает, не помнит, Вы мне возвращаете меня тех лет — незапамятных, допотопных…" (письмо от 23 мая).