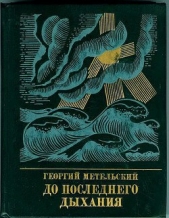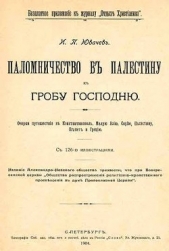Никогда никого не забуду. Повесть об Иване Горбачевском

Никогда никого не забуду. Повесть об Иване Горбачевском читать книгу онлайн
Станислав Рассадин — литературовед и критик, автор ряда книг, в частности биографической повести «Фонвизин», работ, связанных с историей России и русской литературы: «Драматург Пушкин», «Цена гармонии», «Круг зрения», «Спутники» и других.
Новая его повесть посвящена Ивану Ивановичу Горбачевскому — одному из самых радикальных деятелей декабристского Общества соединенных славян, вобравшего в себя беднейшую и наиболее решительную по взглядам частьреволюционно настроенного русского офицерства. За нескончаемые годы сибирской ссылки он стал как бы совестью декабризма, воплощениемего памяти. После окончания каторжного срока и даже после высочайшей амнистии он остался жить в Петровском Заводе — место своей каторги. Отчего? Это одна из загадок его героически-сложной натуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Лепарский, служака честный из честных, где мог, все же придерживался формы и буквы и, может быть, знал, что делал: ему форма и буква указывали отчетливый путь к исполнению долга перед государем, но и спасали от государева же неразумного — даже исходя из пользы самого государя — произвола. Жандарм был свободней и безбоязненней, потому что имел уже возможность смотреть и на долг, и на букву, и на подопечных каторжников с циническим пониманием. Он тоже ведал, что творит: время минуло, месть совершилась, мститель удовлетворился, дальнейшее значения не имело…
Памятник коменданту надзираемые им сами отлили на заводе, и он получился порченый: когда отливали, надломилась верхушка. Опять поколебались, что делать, и тут подал голос как раз он, Иван Иванович:
— Зачем переливать? Оставим так. По мысли это мне даже и нравится: надломленный крест будет означать сломленную жизнь…
Никто не спросил, чью именно, да он и сам бы не сумел прямо ответить. Уж верно, не комендантову — хотя как знать? И тот лег в неродную землю, и многим предстояло то же.
Сейчас настает и его очередь.
— Был столб, да сломился, — тихо произнес он, и священник, погруженный в свои земные заботы, как пробудился:
— Что вы сказали, Иван Иванович?
— Я говорю, батюшка, неужто сорока двух рублей мало?
И Поликарп почти обрадованно вновь затянул про насущное и понятное: про недостаточность средств, про то, что сторожа хоть и жалуются на бедность, да сами больше пьют, чем работают, что народ вообще стал сущий разбойник, избаловался и испьянился, не то что было при покойном государе Николае Павловиче, да, говорят, и при покойном коменданте, царство им обоим небесное…
«Ты ко мне писал и спрашивал о состоянии памятника покойной Александры Григорьевны Муравьевой. Он стоит, и все сделано относительно его починки, по просьбе
Софьи Никитичны; но вот в чем дело: лампада не горит по недостатку масла, а масла нет, как мне сказал о. Поликарп, оттого, что недостает денег на покупку масла, же. Не знаю, в каком банке лежат деньги, т. е. капитал, и при прежних процентах и дешевизне масла было достаточно этих процентов, чтобы лампада горела круглый год; но теперь банк уменьшил проценты, кажется, дают теперь два или три только процента, следовательно, денег не достает на покупку масла, которое теперь здесь вздорожало до неслыханной цены. Я сегодня получил от здешнего бухгалтера записку, вот тебе копия:
«…вступило суммы, принадлежащей умершей А. Г. Муравьевой, 56 руб., 56,5 коп. серебр.
Из этого в 1862-м году употребится:
На жалованье сторожам 6 р. 84 к.
Священникам на панихиды 7 р. 14 к.
Затем остается на освещение 42 р. 58, 5 к.».
Староста церковный, казначей, комиссар и о. Поликарп говорят, что на эти деньги нет возможности целый год освещать маслом памятник; да и посмотри счет, — бедным сторожам приходится очень мало…
Пиши ко мне, прошу тебя об этом особенно, не забывай, что я один в Сибири: скука и тоска меня одолевают, несмотря даже на привычку жить столько на одном месте…»
ИЗ ТЕТРАДИ Г. Р. КРУЖОВНИКОВА Продолжение
«В Петровском было около двух тысяч жителей…»
Делая эту выписку, не утерплю щегольнуть сугубой точностью: недаром же тяну я усердную лямку в заводской конторе, став чем-то вроде ее архивариуса. В Петровском Заводе, он же Петровский, он же Петровск, он же при случае просто Завод, при переводе в него декабристов жителей было ровным счетом 2035. Жилых домов считалось 368. Из них казенных — 14, обывательских — 354.
«…Четвертую часть этого населения составляли чиновники, горные служители, служащие и отставные разночинцы, солдаты горного ведомства, старики, выслужившие сроки в работах и т. д. Остальные, т. е. ¾, были ссыльно-рабочие или каторжники, сосланные за важные преступления и наказанные кнутами, со штемпельными знаками, одним словом, люди, по своему преступлению и в особенности по наказанию исключенные навсегда из общества, а потому и естественные враги его».
Каковы были нравы и быт?
Когда расспрашиваю, отвечают кратко. Нравы были дикими; наказания, как водится, их не смягчали, а ожесточали — и как было не ожесточить? Вот еще цифры, попавшиеся под скорую руку. 1831 год: свыше ста каторжников работают и обитают прикованными к тачкам. 1848-й: четырнадцать человек еже- и круглосуточно приковано цепями к стене.
Что до быта, то он пребывал в состоянии доисторическом: ни базара, ни лавки. Торговлишка завязалась и даже разрослась именно с появлением новых, денежных узников.
К слову, чтоб не забыть: вчера слышал забавный анекдот. Ч., казачий есаул в летах и в отставке, вспоминал, что особенно щедро платили дамы. Говорит, что сам однажды получил от Трубецкой пять рублей. «Ну, не стану врать, в ассигнациях», — прибавил он с честностью обстоятельного летописца. И за что? За очинку пера. Это сладостное происшествие продолжает тешить его по сей день.
Но это присказка. Сам анекдот таков.
Некий ссыльнокаторжный «при князьях» — так здесь определяли и еще определяют эпоху, начавшуюся с переводом декабристов, — решил вспомнить свое старое, доворовское ремесло мясника, заторговал и разжился. Отгрохал двухэтажный дом и, чтоб совсем утвердиться на высоте положения, выпросил «у князей» красный халат.
В довольстве у человека просыпаются чувства, которые бедность успела вытравить; мясник затосковал в своих палатах, вспомнил жену, оставленную в России, выписал ее, и в Завод явилась, протрясясь на телеге весь путь из Ярославщины, убогая баба.
Ч., гордящийся своим остроумием («А я смолоду, скажу вам, и мастак же был над всяким олохоном погалиться», то есть: над простаком посмеяться), первым повстречал женщину, спрашивающую, «где тут, ваше благородие, Митрий Ефремов стоит», и нашелся:
— Ты с мужем погоди. Успеется. Тебя по порядку перво-наперво надо самому коменданту представить.
И представил: разумеется, мужу. Жена, увидав пузана в невиданном халате, пала в ноги «его превосходительству», а польщенный супруг и находчивый шутник долго хохотали, последний и до сих пор не отсмеется.
Спасибо сестре Катерине, Кате Маленькой, как я ее, бывало, звал. Не столько по праву старшего брата, сколько потому, что наш с ней родитель Роман, пребывая в задубевшей верности своему возлюбленному восемнадцатому веку, уж конечно, и ее окрестил не без гордого умысла — дабы и она оказалась дважды тезкой самой княгини Дашковой, знаменитой наперсницы той Екатерины, что звалась уже не Маленькой, а Великой.
Гаврила Романович… Катерина Романовна… А ведь добился старик своего, и меня заразив пристрастием к прошлому нашему столетию.
Да, утешила сестренка, выручила, снизошла к стыдливым мольбам, хотя пришлось-таки бедной немалую деньгу отвалить — по ее-то доходам, собранным с уроков. Да и просто ли было раздобывать «Русскую старину» двенадцатилетней давности с воспоминаниями Михаила Бестужева? Или бартеневский «Девятнадцатый век» за 1872 год, где печатались записки Басаргина (из которых и сделал я выписку о Заводе)?
Даже «Записками декабриста» барона Розена я разбогател ее милыми заботами, — лейпцигская редкость, шутка сказать, проникшая ко мне сквозь почтовое частое решето только по оплошности осмотрщиков (за что хвала — не осмотрщикам, а оплошности). И «Отечественными записками» с «Сибирью и каторгой» Сергея Максимова — он-то успел застать Горбачевского, и говорил с ним, и описал. Жаль, бегло. А вот и вовсе свежатинка, из которой ветровая сибирская дорога не выдула душно-сладкого запаха типографии: «Воспоминания декабриста А. Беляева о пережитом и перечувствованном. Санкт-Петербург. Издание А. С. Суворина. 1882».
Теперь я Потемкин, Крез, Ротшильд — кто там еще из легендарных богачей в силах сомной потягаться? Вот в эту сокровищницу да самого бы Ивана Ивановича… Но из петровского пепла и Феникс бы не воспрянул.