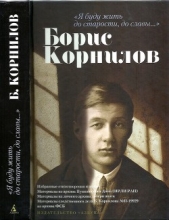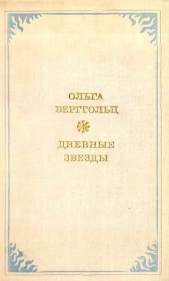Ольга. Запретный дневник.

Ольга. Запретный дневник. читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А я должна писать для Европы о том, как героически обороняется Ленинград, мировой центр культуры. Я не могу этого очерка писать, у меня физически опускаются руки.
Она сидит в кромешной тьме, даже читать не может, сидит, как в камере смертников. Плакала о Тане Гуревич (Таню все сегодня вспоминают и жалеют) и так хорошо сказала: «Я ненавижу, я ненавижу Гитлера, я ненавижу Сталина, я ненавижу тех, кто кидает бомбы на Ленинград и на Берлин, всех, кто ведет эту войну, позорную, страшную…» О, верно, верно! Единственно правильная агитация была бы — «Братайтесь! Долой Гитлера, Сталина, Черчилля, долой правительства, мы не будем больше воевать, не надо ни Германии, ни России, трудящиеся расселятся, устроятся, не надо ни родин, ни правительств — сами, сами будем жить»… А говорят, что бомбу на Таню сбросила 16-летняя летчица. О, ужас! (Самолет будто потом сбили и нашли ее там, — м. б., конечно, фольклор.) О, ужас! О, какие мы люди несчастные, куда мы зашли, в какой дикий тупик и бред. О, какое бессилие и ужас. Ничего, ничего не могу. Надо было бы самой покончить с собой — это самое честное. Я уже столько налгала, столько наошибалась, что этого ничем не искупить и не исправить. А хотела-то только лучшего. Но закричать «братайтесь» — невозможно. Значит, что же? Надо отбиться от немцев. Надо уничтожить фашизм, надо, чтоб кончилась война, и потом у себя все изменить. Как?
Все эти учения — бред, они несут только кровь, кровь и кровь.
О, мир теперь не вылезет из этой кровавой каши долго, долго, долго, — уж теперь-то я это вижу… Кончится одно — начнется другое. И все будет кровь.
Надо выжить и написать обо всем этом книгу… (Только что припадок у Кольки — зажимала ему рот, чтоб не напугал ребят за стенкой, дрался страшно.)
Зачем мы с ним живем, Господи, зачем мы живем, разве мы мало еще настрадались, ничего же лучшего уже не будет, зачем мы живем?
Очень устала душевно за сегодня. Еще эти разговоры с Олесовым (он чудом спасся, убегая из Таллинна, на их пароходишко было 38 воздушных налетов с бомбежкой) — он бормотал о самоубийстве, его приятель, бормотавший о том, что «мы 20 лет ошибались и теперь расплачиваемся», несчастное лицо А. А. Смирнова, сказавшего просто: «Да, я очень страдаю»…
Чем же я могу помочь им всем? Если б мне еще дали возможность говорить то, что я хочу сказать (опять припадки у Кольки), в том же нашем плане, — еще туда-сюда… А мне не дадут даже прочесть письмо маме так, как оно есть, — уж я знаю.
Нет, нет… Надо что-то придумать. Надо перестать писать (лгать, потому что все, что за войну, — ложь)… Надо пойти в госпиталь. Помочь солдату помочиться гораздо полезнее, чем писать ростопчинские афишки. Они, наверное, все же возьмут город. Баррикады на улицах — вздор. Они нужны, чтоб прикрыть отступление Армии. Сталину не жаль нас, не жаль людей. Вожди вообще никогда не думают о людях…
Для Европы буду писать завтра с утра. Выну из души что-либо близкое к правде.
Я дура — просидела почти всю ночь, а ночь была спокойной, а с утра — тревоги, страхи, боль…
28/IX-41
Сегодня в 8 ч. вечера, когда я сидела в газоубежище Дома радио, в соседний дом упали бомбы и рядом тоже нападало. Дом радио № 2, а попало в дом № 4. Убежище так и заходило, как на волнах. Люди сильно побледнели, и говорят, что я тоже стала совсем голубая. Но, по-моему, я не испугалась. Да и некогда было испугаться — не слышно было, как они свистели, — предварительного страха, значит, не было. Так лучше, когда перед этим не пугают, и хорошо бы еще, чтоб убило сразу, чтоб не задыхаться под камнями, чтоб не проломило носа, как Семенову.
Я уже не знаю теперь, когда я боюсь, когда нет. Вчера, когда была в «слезе» и было четыре тревоги, я очень боялась, руки были ледяные, и — конечно, над нами — вились немцы, и мне моментами хотелось крикнуть: «Да ну же, бросай, скорей бросай, я не могу больше ждать»…
14/XI-41
Записываю что-то такое кое-как, на разных листках. Хотя и очень поздно, и ночь спокойная, — хочу урвать у себя время — чуть побыть одной с бумагой, пером и черным кофе. Нерационально, — все время поступаю нерационально: не экономлю кофе, — а голод сверхреален, — что буду делать потом? Не сплю, когда бомбят, — а предыдущие ночи все время выло — и спать было трудно… Ну а иначе — совсем не жизнь…
Только что был большой припадок у Кольки, наяву. Едва очнувшись, он шептал мне — «любовь моя», — и у меня все рвалось внутри.
Я никогда, никогда не оставлю его, ни на кого не променяю! Я люблю его как жизнь, — и хотя эти слова истерты, в данном случае только они точны. Пока он есть — есть и жизнь, и даже роман с Юрой. Если его не будет — кончится жизнь.
14/I-42
О Коля, сердце мое, неужели ты погибаешь?
Твое сегодняшнее лицо стоит передо мной неотрывно…
Оно страшнее той дикой ледяной ночи, которую я провела с тобой 11 января. Я не в силах была остаться рядом с тобой — я начинаю сама сходить с ума, я изнемогаю от сознания своего бессилия перед снедающей тебя болезнью, — быть рядом с тобой, ничем тебе не помогая, а только слушать твой бред и глядеть в твое лицо — нет, я не могу, это гибель и мне, и тебе.
Солнце и жизнь моя, единственный мой свет, что я могу еще сделать для тебя, кроме того, что делаю? Ничего! Ничего.
Да еще эта проклятая бюрократическая машина, из-за которой тебя до сих пор не могут отправить туда, где бы тебе могли оказать реальную помощь.
Завтра буду звонить Никитскому, буду звонить в Смольный, звонила Хамармеру[97], — но Охта не работает уже второй день… Ленинград, блокада, развалившаяся жизнь города душат нас с тобой своими чудовищными обломками.
Радость моя, и жизнь, и гордость, если ты погибнешь, я хочу погибнуть с тобою.
Вот я оставила тебя на попечение добрых людей, сама сижу на радио и что-то пишу, пытаюсь вынырнуть из бездны ужаса и смерти, куда меня и тебя тянет.
Или мне надо сидеть над нею, над твоим безумным, страшным лицом?
Но мы оба должны выжить. Я только истерзаюсь рядом с тобою, только потеряю последние силы, нужные для тебя, — и всё. И всё, что будет в результате.
Даже если это твои последние часы на земле…
НЕТ!
Не может этого быть! Инстинкт подсказывает мне правильно, — мне нужно сберечься, выжить, потому что нужно вытащить тебя, а если ты погибнешь, я жить перестану. Даже не умерев, — перестану существовать. Боюсь, что не хватит сил покончить с собою. Ну, умру так…
О, боже мой… О, что же делать, что делать, как поскорее помочь тебе?
Держись! Ничего, я вытащу тебя… Я буду клянчить пищу у кого попало, покупать у спекулянтов — и бешено работать, чтоб иметь деньги, мы устроимся у Линки[98], и, господи, — ведь скоро конец блокады!
Скоро мы вздохнем с пищей… Но все равно — мы уедем отдыхать, мы уедем в глубокий тыл, к маме, к хлебу, к тишине… Держись! Держись еще немного, мой единственный, мое счастье, изумительный, лучший в мире человек!
Держись!..Скорее бы утро, чтоб узнать, что ты жив, и начать что-то делать для тебя.
А я должна писать. Я должна что-то делать, чтоб выжить, чтоб не сойти с ума, не лечь…[99]
Потом, потом, если ты погибнешь, я лягу. Да, мы должны выжить, и я буду писать — работать, потому что иначе — смерть.
7/II-42
…А между тем, может быть, меня ждет новое горе. Собирался часам к 7 прийти батька, но перед этим должен был зайти в НКВД насчет паспорта — и вот уже скоро 10, а его все нет. Умер по дороге? Задержали в НКВД? Одиннадцатый час, а его нет. М. б., сидит там и ждет, когда выправят паспорт? Может, у меня в Ленинграде уже нет папы?
Народ умирает страшно. Умерли Левка Цырлин, Аксенов, Гофман — а на улицах возят уже не гробы, а просто зашитых в одеяло покойников. Возят по двое сразу на одних санях. Яшка заботится об отправке — спасении нашего оркестра, 250 чел. Диктовал: «Первая скрипка умерла, фагот при смерти, лучший ударник умер».
Кругом говорят о смертях и покойниках.