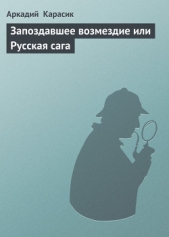Воздыхание окованных. Русская сага

Воздыхание окованных. Русская сага читать книгу онлайн
Окованными можно назвать вообще всех людей, все человечество: и давно ушедших из этого мира, и нас, еще томящихся здесь под гнетом нашей греховной наследственности, переданной нам от падших и изгнанных из «Рая сладости» прародителей Адама и Евы, от всей череды последовавших за ними поколений, наследственности нами самими, увы, преумноженной. Отсюда и воздыхания, — слово, в устах святого апостола Павла являющееся синонимом молитвы: «О чесом бо помолимся, якоже подобает, не вемы, но Сам Дух ходатайствует о нас воздыхании неизглаголанными».
Воздыхания окованных — это и молитва замещения: поминовение не только имен усопших, но и молитва от имени тех, кто давно уже не может сам за себя помолиться, с упованием на помощь препоручивших это нам, еще живущим здесь.
Однако чтобы из глубин сердца молиться о ком-то, в том числе и о дальних, и тем более от лица живших задолго до тебя, нужно хранить хотя бы крупицы живой памяти о них, какое-то подлинное тепло, живое чувство, осязание тех людей, научиться знать их духовно, сочувствуя чаяниям и скорбям давно отшедшей жизни, насколько это вообще возможно для человека — постигать тайну личности и дух жизни другого. А главное — научиться сострадать грешнику, такому же грешнику, как и мы сами, поскольку это сострадание — есть одно из главных критериев подлинного христианства.
Но «невозможное человекам возможно Богу»: всякий человек оставляет какой-то свой след в жизни, и Милосердный Господь, даруя некоторым потомкам особенно острую сердечную проницательность, способность духовно погружаться в стихию былого, сближаться с прошлым и созерцать в духе сокровенное других сердец, заботится о том, чтобы эта живая нить памяти не исчезала бесследно. Вот почему хранение памяти — не самоцель, но прежде всего средство единение поколений в любви, сострадании и взаимопомощи, благодаря чему могут — и должны! — преодолеваться и «река времен», уносящая «все дела людей», и даже преграды смерти, подготавливая наши души к инобытию в Блаженной Вечности вместе с теми, кто был до нас и кто соберется во время оно в Церкви Торжествующей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тогда я узнала и запомнила на всю жизнь Микеланджело — его росписи Сикстинской капеллы, о которых — уже много позднее мне растолковали, будто бы в них изображены какие-то могучие сверхчеловеки — так акцентировало эти фрески преимущественно искусствоведческое восприятие. Меня же задевало на лицах прародителей и сивилл нечто иное — печать неизреченной муки и духовного томления… Тот же след виделся мне и на лицах Дня и Ночи, Утра и Вечера — Микеланджеловских надгробных фигур из капеллы Медичи, и вечный их — не мертвый, ни живой — но странный сон, и вечная их при этом неусыпная тяжелая дума, их тайное неведомое и страшное знание или, скорее, предчувствие: небытия как вечного, словом земным неизъяснимого страдания. А, может быть, и не только предчувствия, но уже и знания…
Но более всего властвовал тогда надо мной Дюрер. Было страшно, но оторваться от четырех апокалипсических всадников, от лука и венца, меча и меры в их руках, от четвертого коня «бледного» и самого главного и страшного всадника — Смерти — не могла.
С родителями я этими впечатлениями не делилась. Да и сказать о них тогда, конечно, просто не сумела бы. Но впечатления были, и я их отчетливо помню. Уже тогда они что-то внятное говорили моему сердцу. В детстве ведь даже очень сложные и глубокие вещи как-то интуитивно, целостно и просто постигаются.
…И вот однажды вечером, когда меня уложили спать, как обычно, потушив свет, и не плотно прикрыв дверь в другую комнату, где за столом мои родители и бабушка пили чай, — я тогда еще боялась полной темноты, и был уговор меж нами об этом маленьком лучике света, — так вот в этот вечер ничто не предвещало того ужаса, который вдруг настиг бедное детское сердце. Все было как обычно: позвякивали чашки в соседней комнате, доносился тихий разговор… И вдруг, внезапно, без всяких логически-мыслимых причин (правда, все же в сердце моем успела пронестись мысль о родителях, мол, вот они, милые, там сидят, как все хорошо и как я их люблю) передо мной разверзлась бездна. Я узнала, — или почувствовала? — молниеносно, что наступит день, и родители — умрут. И никогда их больше не будет. Было ли это мне сказано? Или как-то иначе я об этом узнала? Ответить не могу. Только помню, отлично помню, что мне было явлено видение (или ощущение) смерти и мною это было осознано как вполне взрослым человеком: безысходный, невыразимый словесно мрак небытия, и ужас потери любимых, который — в мгновение ока я это тут же прочувствовала, — мне было бы невозможно, нестерпимо пережить.
И многие десятилетия спустя — пока еще живы были родители, это знание висело над моей душой как дамоклов меч. Я никогда не забывала о том, что было мне сказано. Всегда ждала, всегда пыталась уготовиться к тому, к чему уготовиться, казалось, было для меня невозможно. Но в свой час все свершилось…
Получается так, что уход родителей я фактически пережила за многие десятилетия до их реальных кончин. Может ли мне теперь кто-нибудь возразить, что наш маленький временной земной мир не погружен в Вечность, где не действует хронология событий, где царит немыслимая, благодаря этому, и подлинная одновременная полнота бытия?
В этом видении я ощутила смерть во всей ее духовной яви и как свою смерть тоже… Но тут также молниеносно разверстый предо мной ад, насладившийся моим ужасом, закрылся. И кто-то другой, очень тихий, несказанно тихий, кого я не видела, но явно ощущала над своим изголовьем рядом, кому я сразу полностью поверила, сказал мне (кажется мне теперь, — с состраданием, но и бесстрастием, которое выше состраданий): «Не бойся. Ты не умрешь…». И странно, потом укоряла я себя, что я даже не спросила этот Голос: кто Ты?
Мне не было тогда четырех лет, но зачем-то мне дано было пережить то, что, скажу для сравнения, несчастный Лев Николаевич Толстой называл «Арзамасским ужасом», ибо пережил такое же адское откровение в городе Арзамасе, правде уже вполне в зрелом возрасте. Наверное, причины и цель, ради которой попущено было нам пережить это видение, были все-таки разные…
А еще я тогда успела подумать: я не умру, но как же они? И как же я без них?
…….
С того момента началось мое почти вполне осмысленное движение по жизни, что-то вроде рефлексии, — в буквальном смысле слова — постоянная, напряженная ловля того крохотного луча света, присутствие которого при всех провалах и блужданиях запутанных жизненных путей постоянно ощущалось, создавая некую внутреннюю непреклонную уверенность в том, что несмотря ни на какие мертвые петли дороги, ты следуешь по абсолютно прямому пути.
…….
В тот вечер родители, услышав мой плач, прибежали утирать мои слезы, но тайну я им не открыла. Не могла же я им сказать, что они умрут.
И вновь был этот неотмирный покой родительского дома, бархатная тишина, в которой, как нам иногда открывается, утопает Вечность. И вновь на наш дощатый пол, как и прежде, скользнул все тот же тонкий, утешительный луч света…
Надо было прожить большую часть жизни, похоронить всех старших близких, очень многое потерять, от много — от устремлений и надежд отказаться, чтобы, наконец, проснуться и задуматься: а для чего даны мне были в столь раннем детстве и этот несгораемый шкаф, хранящий осыпавшиеся лепестки давно ушедшей жизни, память дорогих знаемых и незнаемых людей, память благоуханную, влекущую, томящую сердце, взрывающую в нем любовь, которая, какой же могла бы найти тогда выход и применение? — и эти странные откровения…
Эта доминанта любви и скучания по прошлому очень долго не находила никакого разрешения, хотя постоянно присутствовала в самых сокровенных глубинах сердца. Иногда мне казалось, что на самом деле я уже жила и прожила свою жизнь тогда вместе с ними, и родина моя осталась там, с моей семьей, моими друзьями, а моей любовью остались те давно ушедшие, — они.
А потом, как осколок налетевшего на рифы корабля, я оказалась почему-то впереди прошлого, на нынешней поверхности жизни… И это была совсем другая жизнь. Все другое. Планета другая. И все происходившее со мной теперь ощущалось совсем в ином ключе: бытие словно крошилось и осыпалось из рук, оставляя ощущение всецелой своей иллюзорности. Мол, пожил тогда, и хватит. А потому нередко и вполне серьезно я, пытаясь все это на всякий случай перепроверить, задавала себе вопрос: действительно ли я еще живу, или мне это снится?
Или, быть может, — это и есть самое настоящее наступившее небытие?

Иллюстрация: Альбрехт Дюрер. Четыре всадника Апокалипсиса.
…При жизни бабушки минувшее ощущалось настолько близким, — рукой подать, — что отстраниться и вглядеться, как вглядываются во что-то иное, стоящее вне тебя, было невозможно. Прошлое семьи, да и вообще русское наше прошлое еще продолжалось в бабушке и дышало жизнью окрест нее, а, значит, и смерть прошлого еще не наступала. Оно было еще настоящим, но уже сумеречничающим днем…
Полнеба обхватила тень,
Лишь там, на западе, бродит сиянье, —
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье …
…То и дело, вскользь, буднично упоминались какие-то шутошные, и ни к чему не обязывающие подробности из давно ушедшего. Это были совершенно бессвязные подробности и обрывки бытия, из которых, однако, чувствовалось, и состоит жизнь на самом-то деле. «Люди обедают, только обедают, а в это время рушатся их жизни и слагается их счастье…».
То прапрабабушка вспоминалась, то прадед, то любимая прапрабабушкина сестра Варенька, то няня Ариша, вынянчившая несколько поколений Жуковских и почти уже сто лет как усопшая, то мой дед, эмигрировавший из России еще в 1918 году, — и все они были для меня не «как» живые, а явственно живые, потому что их жизнь и души заключались в живом и любящем бабушкином сердце, а через нее отзывались со-чувствием и в моем. Наши сердца были соединены как две емкости песочных часов.