Тринадцатый апостол. Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях
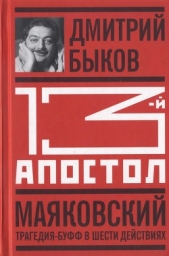
Тринадцатый апостол. Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях читать книгу онлайн
Подлинное значение Владимира Маяковского определяется не тем, что в советское время его объявили «лучшим и талантливейшим поэтом», — а тем, что и при жизни, и после смерти его личность и творчество оставались в центре общественного внимания, в кругу тем, образующих контекст современной русской культуры. Роль поэта в обществе, его право — или обязанность — активно участвовать в политической борьбе, революция, любовь, смерть — всё это ярко отразилось в стихах Маяковского, делая их актуальными для любой эпохи.
Среди множества книг, посвященных Маяковскому, особое место занимает его новая биография, созданная известным поэтом, писателем, публицистом Дмитрием Быковым. Подробно описывая жизненный путь своего героя, его отношения с властью, с женщинами, с соратниками и противниками, автор сосредоточивает внимание на ключевых моментах, видя в них отражение главных проблем русской интеллигенции и шире — русской истории. Этим книга напоминает предыдущие работы Быкова в серии «ЖЗЛ» — биографии Б. Пастернака и Б. Окуджавы, образуя вместе с ними трилогию о судьбах русских поэтов XX века.
знак информационной продукции 16+
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все это бред, дурной сон, абракадабра. Подождем еще год.
И потом, как Вам нравится толкованье, которое дается у Вас моему шагу? Выгода, соперничество, использованье конъюнктуры и пр. И у Вас уши не вянут от этого вздора? При том как похоже на меня, не правда ли? Ведь у Вас люди с общественной жилкой бывают на собраниях, в театрах, издательствах и на диспутах. Много ли они меня там видели? Покидая Леф, я расстался с последним из этих бесполезных объединений не затем, чтобы начать весь ряд сначала. И Вы пока стараетесь этого не понять».
Само собою разумеется, что Пастернак ушел из ЛЕФа не из конъюнктурных соображений: ему представлялось, что ЛЕФ — это «буйство с мандатом на буйство». Но вот что Полонский — это в контексте эпохи охранительство с мандатом на охранительство, этого он, кажется, не понимал и вообще считал, что Полонский находится в позиции уязвленной, опасной. Он не видел — или не хотел видеть — того, что «эпоха задвигает Маяковского», что время уже работает не на ЛЕФ, что Полонский, разоблачая главного поэта революции и ведущего идеолога нового быта, ничем не рискует.
Десять лет назад в книге о Пастернаке я освещал эту коллизию, так сказать, с другой стороны; проще всего сказать, что автор всегда бессознательно берет сторону героя и оправдывает того, о ком пишет. Но за эти десять лет в России многое изменилось — произошло, в частности, и то, что в книге про Пастернака было только предсказано: борющиеся стороны взаимно уничтожились и победила третья. Либералы и консерваторы, архаисты и новаторы в очередной раз оказались побеждены государственниками — без принципов, без идей, но с ресурсом.
В свете этой победы полемика Маяковского и Полонского, «Нового мира» и «ЛЕФа» начинает выглядеть несколько иначе. Становится ясно, что позиция Маяковского была уязвимее — и в каком-то смысле благороднее. Конечно, революция — по крайней мере та, русская, октябрьская, — для тех, кто любит модернизм и работу, а жизни не любит и жить не умеет; но пора уже понять, что быт не является высшей ценностью, что человек живет не ради того, что Пастернак называл «обиходом», что умение жить почти всегда тождественно умению «устраиваться», а история и культура движутся за счет тех, кому обыденность невыносима.
Литература тут ни при чем или почти ни при чем. Речь идет о наступлении — в широком смысле, но ведь будущее всегда наступает, атакует, даже, пожалуй, наступает на человека, как человек на жука, — эпохи куда более бесчеловечной, чем революция; пусть очередной рывок в идеальное будущее не состоялся — все же защищать то болото, в которое человек плюхнулся обратно, не совсем комильфо. Революционная эпоха может быть сколь угодно кровава — но все же она не так омерзительна, как контрреволюционная; потому что революция порождает культуру, надежды, новый тип человека, — а контрреволюция не порождает ничего, кроме травли, доносительства и массовой деградации.
Правда, иногда при этом варится некоторое количество стали и завоевывается некоторое количество территорий, после чего лучшая часть нации истребляется, а остальным становится все лучше, все веселее. Они ведь живы.
Да здравствует история России, позволяющая каждому поколению все пережить заново и увидеть, как оно было!
ЛЕФ был прав.
ОДЕССКОЕ СЧАСТЬЕ
Он стоял на балконе гостиницы «Лондонская», перед ним на парапете — бокал вина, был ослепительный июньский день, дул легкий ветер с моря. Она сидела внизу, напротив, в платановой аллее над обрывом, с его книгой. Она знала, что он в городе, и бессознательно желала попасться ему на глаза. Ей с утра уже донес один из поклонников, что приехал, приехал. Обрит наголо, но совершенно великолепен.
Он смотрел на нее, она подняла глаза. Книга упала с колен.
Он поднял бокал и выпил за нее — «за своего читателя», подумала она.
Он улыбнулся. Она улыбнулась. Надо было, как говорят в Одессе, что-то уже сказать.
Но тут на извозчике приехал сияющий Семен Кирсанов. Они с ней были знакомы по одесским поэтическим вечерам, и если бы он ее заметил, то немедленно представил бы Маяковскому. Она этого пока не хотела. Она вообще не знала, хочет ли этого. Она, короче, убежала к морю, карабкалась по обрыву в зарослях сирени и лишь полчаса спустя вернулась на аллею. А там стояли Маяковский с Кирсановым, поджидая именно ее.
— Товарищ девушка! — сказал Маяковский медленным басом. — Вы мне по росту. Давайте гулять вместе.
Если кто-то хочет представить, какой она была тогда, — именно с нее рисовал садовницу Ласочку Евгений Кибрик, когда иллюстрировал «Кола Брюньона». Кибрик был тогда двадцатилетний одесский студент, тоже завсегдатай литературных вечеров.
Ее звали Женя Дьяконова, и она была уже замужем. Фамилия по мужу была Хин. Главным ее увлечением была литература, а работала она экономистом, только что окончила Инархоз — Институт народного хозяйства.
В эту одесскую неделю Маяковский был отчего-то счастлив и спокоен. Именно спокойным его вспоминают все, кто встречался с ним в порту, в приехавшем на гастроли театре Мейерхольда, в одесских послеконцертных застольях: обычно он или утомлен, или суетлив, или мрачен. А здесь он был спокоен и, стало быть, счастлив.
— Стихи любите? — спросил он.
— Больше всего на свете.
— Кто любимый поэт?
— Надо, наверное, сказать, что вы.
Он улыбался.
— Кирсанов! Запишите мне эту вывеску: Южхладбой. Пригодится.
Кирсанов был особенно оживлен и развязен. Аксенов, описывая это состояние, упомянул «дрожащие глаза человека, которому хотелось считаться его близким другом»: вот тут было что-то подобное. Маяковский Кирсанову покровительствовал, как многим упомянутым выше еврейским отрокам. Кирсанов его потом предаст, но будет считать, что это Маяковский его предал, предал их всех, бросив ЛЕФ и записавшись в РАПП.
Пошли в порт, постепенно обрастая компанией местных поэтов: таково было свойство Маяка — он собирал вокруг себя толпу и всех вел угощать, особенно же не любил один оставаться в гостинице по вечерам. Сейчас он рассказывал о Мексике:
— Это желтое и красное. И зеленая пальма. К ней прислонен мексиканец в огромной шляпе.
Он, конечно, выступал, играл — но не перед всеми, а перед ней.
— Что самое интересное в городе? Порт? Пошли в порт.
Стало между тем быстро, как всегда на юге, темнеть, зажегся синий маяк, молодежь начала читать стихи. Кирсанов опять старался. Попросили Маяковского. Он покачал головой.
— Бережете себя для платных выступлений? — сострил кто-то из молодежи. Он, однако, был настроен так элегически, что не стал отлаиваться.
— Удивительно вдохновляет все это, — сказал он. — Море, суда. Девушки на молу.
У памятника Ришелье, когда все прощались, он наклонился к ней и тихо сказал:
— Разрешите мне проводить вас до дому.
Она жила на улице Коминтерна, совсем близко, но старалась вести его окольными путями, чтобы подольше. Ворота ее дома были заперты, она потянулась позвонить.
— И вы бездарно проведете эту ночь? — спросил он негромко, но со страшным напором. — Пойдете в унылую постель и выключитесь из этой ночи? Пойдемте со мной. Я ненавижу гостиницы даже в Одессе. Буду читать вам стихи. Пойдемте в порт, посмотрим, как он живет после полуночи.
— Но порт закрыт, нас никуда не пустят!
— Все равно пойдем.
Отказать ему было нельзя, пошли в ночной порт.
— Вы ведь наверняка пишете стихи. Прочтите.
Свои она читать побоялась и прочла Пастернака, «Марбург», который, как вспоминала она потом, был паролем в их среде. Особенно его любимая строфа: «В тот день всю тебя…» Он тоже ее часто цитировал, и в только что напечатанной статье «Как делать стихи» — снова.
— Завидую этим стихам, — сказал он. — Завидую поэтам, которых ночью в провинции читают девушки прерывающимися голосами.
Порт закрыт. Маяковский подходит к часовому:
— Хочется посмотреть ночью на корабли. Я корреспондент «Известий». Нельзя?





















